Собрание сочинений. Том 2 - [8]
Мы спешно с приятелями распрощались – каждый торопился со своею сенсацией домой: я позже неоднократно замечал – одинаково у себя и у других – как мы любим использовать всякую свою близость к чужому подвигу, к чужому самопожертвованию, страданиям, смерти, точно они и нас возвышают, хотя мы всего только «дешево отделались». Я не сочувствовал самому Щербинину (даже терзаясь душевной своей уродливостью), однако ждал нетерпеливо минуты, когда смогу домашних поразить, и смутно боялся, что при этом рассмеюсь, особенно в разговоре с нашей мадемуазель, которая примет мою новость с наибольшим удивлением и жалостью. Мне удалось лишь в зрелые годы частично избавиться от неприятного свойства – смеяться в лицо над чьими-либо неудачами, над плохими отметками или «разыгранными» учителями, над малышом, свалившимся от подножки, над карточным проигрышем, над освистанным оратором, над посрамленным и растерянным спорщиком, над бегущими и опаздывающими на поезд – нередко, читая газетные известия о далекой борьбе враждующих партий, о нарастании мировых событий, я азартно хочу ускорить чье-то окончательное поражение, и в основе то же смешливое злорадство, травля и добивание любых неудачников, вопреки собственным пристрастиям и природной искренней доброжелательности: у меня очевидно проявляются и повышенное чувство смешного, и темные внутренние силы, и какая-то нервная распущенность, и то неудержимое гибельное стремление, которое болезненно нас тянет кинуться с балкона или с моста, сказать невозможную, непоправимую грубость, напрасно обидеть нам преданную, кроткую возлюбленную. И в детстве и до сих пор – чтобы сразу же подавить неуместную улыбку, привязчиво-бесстыдный смешок – у меня всегда наготове достаточно грустные воспоминания: мне это – из-за долгой тренированности – всё более, всё надежнее помогает, но в иных соблазнительных случаях досадная моя склонность прорывается. Так вышло и с mademoiselle – увидев понятный ее испуг, я в упор неприлично-громко расхохотался.
В гимназии и дома загадочный поступок Щербинина несколько дней подряд обсуждался наперерыв. В классе никто не злословил, даже Оленин и Штейн, и высказывались ложно-обоснованные предположения в тоне снисходительности, напускной серьезности и опытности (будто мы временно под кого-то маскируемся), и так же – быть может, сердечнее – об этом говорил и Николай Леонтьевич, с оттенком сплетничества, доверительно-интимно разобравший все нами придуманные объяснения. Похороны были деловито-будничными – те же лица, гербы и шинели, тот же беспорядок и покрикивание учителей – и на улице, а затем на кладбище я не испытывал ничего, кроме колотья в ушах от сверлящего холодного ветра, и тоскливо ждал конца неприятностей, теплой комнаты, утренней газеты (помню, с какими-то сведениями о выборах, для меня увлекательной очередной «сенсацией»). Стыдясь ледяного своего равнодушия, я сделал попытку в себе пробудить естественное возмущение перед новой могилой – что она закроется и своей жертвы не выпустит, что мы согреемся, а Щербинин останется в мерзлой земле, что обидно так молодо умирать, но вялые общие эти мысли отпали, не тронув, как и всякое наше умничанье. Столь же искусственными оказались и сочиненные мноюстихи, начинавшиеся со слов «Октябрь на дворе, столица заволоклась туманом, как всегда» и заканчивавшиеся нравоучительно, под взрослого:Увы, хоронят молодого гимназиста,
Который слишком рано жизнь познал,
И, видя, что пути ее жестоки и тернисты,
Ее на смерть променял.
Стихи эти вскоре «затрепались» – не только по моей вине – и меня же стала отталкивать высокомерная их пустота, но Щербинина я по-прежнему не жалел и глухо радовался (как это бывало и впоследствии) исчезновению единственного свидетеля иных неприглядных моих сторон – в данном случае сентиментальных разговоров, смутных обязательств, постоянной беспощадности. И всё же мальчишеская моя бесчувственность не удержалась – она сменилась длительной связью с умершим, уже глубокой, похожей на «культ» и выбравшей два отчетливо-разных пути, которые изредка нечаянно скрещивались, однако не сливались и снова расходились.
Первый – тяжелые, навязчивые сны, возникшие по самому неожиданному поводу. Однажды вечером, блаженствуя в ванне (дней через десять после похорон), я – из ребяческого озорного любопытства – с головой погрузился в горячую воду, чтобы наглядно, приближенно себе представить, каково было Щербинину задыхаться, и от собственного ужаса, от дальнейшего сладкого освобождения вдруг ощутил его безвыходный конец. Это превратилось ошеломительно быстро в безвольную привычку, в какую-то странную одержимость: мне стоило остаться одному, как я судорожно пальцами зажимал ноздри и пробовал минуту не дышать, переносясь в предсмертное состояние Щербинина и всё более разделяя его мучения. Вероятно, были и другие причины, о которых я вспомнить не могу (или случившееся не сразу до меня дошло – наша «реакция» часто запаздывает, не поспевает за самим восприятием), но мне, именно поглощенному этой подражательно-самоубийственной игрой, впервые ночью приснился бледный, мертвый Щербинин, с теми синими пятнами, которые были у него в гробу, и всё же воскресший, способный двигаться и говорить – он крепко схватил мою руку своей холодной, как при жизни, рукой и повел меня куда-то наверх по длинной, страшной винтовой лестнице, причем я знал, что мы взбираемся на башню (не то вроде Вавилонской, по наивным библейским картинкам, не то на пожарную каланчу), затем он кинулся вниз и увлек меня за собой, и тогда я проснулся, дрожащий, невыразимо потрясенный. В квартире все спали, ничьей поддержки быть не могло, и я, как будто парализованный и темнотой и своим одиночеством, как будто находясь в присутствии, во власти мертвеца, особенно боялся уснуть и вызвать его неизбежное и слишком ощутительное появление. Это стало повторяться каждую ночь – по многу раз, едва я засыпал – и мой ужас не уменьшался, скорее даже усиливался, точно падало разумное сопротивление остатков уравновешенности и трезвости. Всё нестерпимее делалась пугающая, мстительная темнота, и часто вечером – из кабинета или гостиной – не имея мужества добраться до выключателя, я убегал в освещенную детскую, где наваждение немедленно проходило. Я себя уговаривал, что это не трусость, что у меня болезненные видения – хотя я к ним и не склонен, хотя таинственное мне чуждо и недоступно. Но потом, когда от возраста исчезла моя задетость, я – упрямо защищая ослабленную чувствительность (с таким упрямством защищают любовь), как бы спасаясь от сухости и скуки, – я себе навязывал эти же мрачные видения, и лишь последняя, грубо-искусственная попытка (студентом, в Крыму, среди пустынных улиц и бесконечных глиняных стен) разоблачила мой самообман: мне было нужно вот так по-взрослому себя осудить, чтобы навсегда отрешиться от соблазнительных выдумок. Я уже признавался, как меня возвышало романтическое вранье о Щербинине, лживо-тягостная моя виновность, легковесные предположения о расплате, к чему и сводилась вторая, внешняя сторона неразрывной моей с ним близости – и это выходило еще убедительнее от пережитых, неподдельно-страшных ночей (здесь явно скрещивались оба моих пути), и я, разумеется, удерживал (пока не явилась всё та же ироническая взрослость) простейшую возможность рисоваться столь тщеславными о себе рассказами перед напуганными, взволнованными гимназистками, при вечной моей стеснительности и неловкой ухаживательской робости.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.
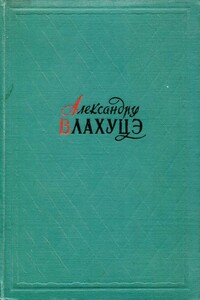
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Распространение холерных эпидемий в России происходило вопреки карантинам и кордонам, любые усилия властей по борьбе с ними только ожесточали народ, но не «замечались» самой холерой. Врачи, как правило, ничем не могли помочь заболевшим, их скорая и необычайно мучительная смерть вызвала в обществе страх. Не было ни семей, ни сословий, из которых холера не забрала тогда какое-то число жизней. Среди ученых нарастало осознание несостоятельности многих воззрений на природу инфекционных болезней и способов их лечения.

"Характеры, или Нравы нынешнего века" Жана де Лабрюйера - это собрание эпиграмм, размышлений и портретов. В этой работе Лабрюйер попытался изобразить общественные нравы своего века. В предисловии к своим "Характерам" автор признался, что цель книги - обратить внимание на недостатки общества, "сделанные с натуры", с целью их исправления. Язык его произведения настолько реалистичен в изображении деталей и черт характера, что современники не верили в отвлеченность его характеристик и пытались угадывать в них живых людей.
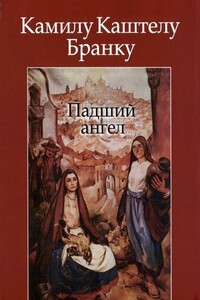
Роман португальского писателя Камилу Каштелу Бранку (1825—1890) «Падший ангел» (1865) ранее не переводился на русский язык, это первая попытка научного издания одного из наиболее известных произведений классика португальской литературы XIX в. В «Падшем ангеле», как и во многих романах К. Каштелу Бранку, элементы литературной игры совмещаются с ироническим изображением современной автору португальской действительности. Использование «романтической иронии» также позволяет К. Каштелу Бранку представить с неожиданной точки зрения ряд «бродячих сюжетов» европейской литературы.
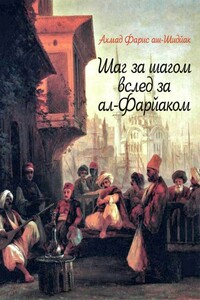
Представляемое читателю издание является третьим, завершающим, трудом образующих триптих произведений новой арабской литературы — «Извлечение чистого золота из краткого описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже» Рифа‘а Рафи‘ ат-Тахтави, «Шаг за шагом вслед за ал-Фарйаком» Ахмада Фариса аш-Шидйака, «Рассказ ‘Исы ибн Хишама, или Период времени» Мухаммада ал-Мувайлихи. Первое и третье из них ранее увидели свет в академической серии «Литературные памятники». Прозаик, поэт, лингвист, переводчик, журналист, издатель, один из зачинателей современного арабского романа Ахмад Фарис аш-Шидйак (ок.

«Мартин Чезлвит» (англ. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, часто просто Martin Chuzzlewit) — роман Чарльза Диккенса. Выходил отдельными выпусками в 1843—1844 годах. В книге отразились впечатления автора от поездки в США в 1842 году, во многом негативные. Роман посвящен знакомой Диккенса — миллионерше-благотворительнице Анджеле Бердетт-Куттс. На русский язык «Мартин Чезлвит» был переведен в 1844 году и опубликован в журнале «Отечественные записки». В обзоре русской литературы за 1844 год В. Г. Белинский отметил «необыкновенную зрелость таланта автора», назвав «Мартина Чезлвита» «едва ли не лучшим романом даровитого Диккенса» (В.