Собрание сочинений. Том 1 - [38]
Он пришел в ту минуту, когда я одобрительно перечитывал добросовестное, как мне казалось, в сущности злое письмо к Леле, и стал по-дружески выговаривать за невнимание последних дней.
– Нехорошо, что ты пропадаешь. Зинка сердится и просила тебя непременно привести. Ну, как дела? Всё время работаешь?
Я рассеянно осмотрел его галстух, летний, легкий, повязанный будто бы как попало, но без единой морщинки, его шелковую, нежнейших цветов, рубашку и умышленно неуклюжий, мешком сидящий костюм, всё ярко-светлое и самое дорогое – как всегда, удивляясь и чуть-чуть завидуя, откуда берутся у него деньги. Бобка перебирал немногие мои книги и почтительно удивлялся совсем другому:
– Счастливый, у тебя весь Пушкин. Я люблю Пушкина. Какой у него «лапидарный» стих, вспомни «Египетские ночи». Тебе надо обязательно познакомиться с Л., ты не представляешь, какой это эрудит.
Бобка остался благодушно доволен изысканной редкостью своих выражений (впрочем, «эрудит» – любимое и часто повторяемое им слово) и, решив, что достаточно себя показал, перешел на более обыкновенное:
– Все-таки не понимаю, как ты можешь жить в такой голой и скучной (он хотел сказать «бедной») комнате. При твоих возможностях ты бы должен был устроиться гораздо лучше. Ну, бери шляпу, я тебя всё равно не выпущу.
Мы отправились вместе под руку (Бобка не без хитрости со мной дружен, на «ты» и мило откровенен) и по дороге говорили о женщинах.
– Правда, Ида Ивановна замечательный экземпляр. Бедняжка, она простудилась и не выходит. Как ты думаешь, у нее кто-нибудь есть?
Мне было приятно, что у Вильчевских ее не увижу, что на вечер свободен от упреков, хотя бы молчаливых. Я развеселился и стал указывать Бобке на встречавшихся молодых женщин, и мы по-мальчишески самонадеянно обсуждали их наружные достоинства и недостатки, а главное, старались угадать скрываемое: вот у этой пушок над губой – ей, пожалуй, не выгодно снять чулки или показывать голые руки, у той дрожит при ходьбе блузка – вероятно, испорченная грудь, у третьей слишком прямое платье – очевидно, низкая талия, наоборот, низкие каблуки – безбоязненно длинные ноги… Всех этих глупых признаков не перечесть, и мне странно их улавливать и называть после долгого к ним из-за Лели пренебрежения. Что-то изменилось у меня от Иды Ивановны, точно я внезапно прозрел: нам иногда довольно небольшого нового опыта, чтобы восстановить забытое и похожее, и всё это как бы вместе стремительно нас обогащает. От Иды Ивановны осталось еще и другое: мне сделалось просто судить и думать о разных женщинах, потому что уменьшилась, почти исчезла какая-то давняя между ними и мной преграда, и они теперь понятнее, доступнее, ближе, словно у меня сохранилась победительная волшебная легкость, возникшая у Иды Ивановны после вина и распространившаяся на всех женщин, и словно эта легкость мне придала не только уверенности в успехе – из-за тщеславного воспоминания – ной самого успеха, той загадочной способности волновать, которую прежде я бессильно и грустно лишь находил у других и которой в Лелино время, вероятно, еще препятствовала постоянная моя несвобода. С этой новой своей уверенностью, с какой-то неясной надеждой, и пришел к Вильчевским, где Зинка меня встретила обычнолениво и общей фразой – «Что вы скажете в свое оправдание», – а кто-то (кажется, эрудит Л.) находчиво за меня ответил: «Виновен, но заслуживает снисхождения».
У Вильчевских, как всегда (несмотря на светские претензии), было шумно, разрозненно и бестолково, гости расселись отдельными кружками, и казалось, что одни другим мешают и что каждый кружок ограничен и занят только собой. Я как-то сразу увидал, что легко составлю такой отдельный замкнутый кружок с Зинкой, ее молчаливое поощряющее согласие, и эта немедленная определенность – без обессиливающих и скучных стараний – прибавилась к веселой самоуверенности, меня сюда принесшей и постепенно разраставшейся из-за всех по следовательно благоприятных обстоятельств – отсрочки свидания с Идой Ивановной, тревожащего полу накликанного Зинкиного «согласия», вдруг найденной свободы от Лели, свободы не окончательной, похожей на передышку и начавшейся в ту минуту, когда я стал нравиться Иде Ивановне и на что-то у нее понадеялся (лишнее доказательство правильной и обоснованной моей ревности к Лелиному успеху, к ее желанию нравиться – мысль случайная, быстрая, всё же капельку отравившая веселое мое вдохновение, единственно напомнившая о долгом и стыдном времени, навязчиво занятом Лелей, обиженностью на нее и непрерывной боязливой ей преданностью).
Зинка мне показалась переменившейся – не бледно-серой и чуть-чуть неуклюжей, как обыкновенно, а порозовевшей, выпрямленно-стройной в лакированных, на высоком каблуке, утончающих, узящих ногу, туфлях. Она беспричинно-радостно подошла, и с ней – в противоположность Иде Ивановне, вероятно, от соответствия внешности и возраста – мне было приятно стоять рядом, задерживая в своей руке ее горячую, крепко обхваченную ладонь. Мы устроились вместе, в углу, и говорили о чем придется – именно с такими, как Зинка (женщинами без блеска и сразу разгаданными), я говорю внутренно-пренебрежительно, не считаясь с ними и не отвечая за свои слова – Зинка меня, по-видимому, не слушала, улыбалась опьяненным, далеким, на что-то намекающим взглядом и гладила (словно ласкала) прекрасными сильными пальцами стройные свои ноги, сама от себя возбуждаясь, причем ее возбуждение тотчас же передавалось и мне. В этой будто бы рассеянной женской манере, в самом жесте ноги, закинутой за ногу и тесно, точно в объятии, ее сжимающей, есть для меня и вызов, и опасная, притягивающая надежда. Я сидел около Зинки, любезной и малоразговорчивой (как бывало и раньше), и знал, что не должен со всеми от нее уходить, что если сегодня не останусь, то упущу неповторимый случай легкого мужского везения – так иногда в трамвае или метро увидишь в глазах соседки завлекающее, безо лжи, обещание и от неловкости перед собой, от страха, что угадают другие, разочаровывая и стыдясь, неожиданно сходишь на нужной, своей, убийственно-ранней остановке. Но, пожалуй, теперь мне суждено не отказываться, а добиваться – упрямо, грубо и просто (у меня всё меньше препятствующей тонкости и сложности), – и вот, когда гости уже поднялись и прощались, я без малейшего стеснения, заботясь об одном, чтобы выиграть, стараясь для этого быть возможно правдоподобнее и убедительнее, непринужденно Зинке предложил:

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.
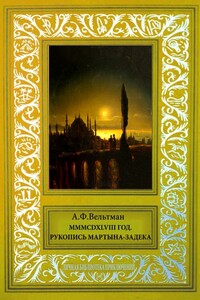
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.