Собрание сочинений. Том 1 - [37]
26 июня.
Я думал до получения Лелиного письма, что будет для меня праздником ей отвечать – после всех моих обращений без живого отклика и в пустоту. Но неожиданно выяснилось, что мне так же лень наполнять обязательные четыре страницы, так же приходится себя пересиливать, как при всякой иной вынужденной, наперед себе заданной работе: по-видимому, что-то осталось от расхолаживающей новой полууверенности в Леле, а главное, весь день происходят отвлекающие, скорее приятные маленькие события – вчера сравнительно легко я довел до конца большое сложное дело и до сих пор радостно оглушен деньгами, покупками, сознанием обеспеченности, осмелевшими расчетами на будущее. Странно, в такое время, казалось бы, требующее откровенничания, доверчивых дружеских излияний, я могу довольствоваться собой или случайными собеседниками и собутыльниками – как раз в этом у меня нет перед другими ни тщеславия, ни обычной торжествующе-проницательной или грустно-примиренной позы: вероятно, душевная моя основа все-таки выше и вне деловых успехов и неудач.
Вчера же перед вечером – после двух уединенных дней с отсутствием каких бы то ни было оправдывающих мою лень обязанностей – я вдруг понял, что больше откладывать нельзя, и себя заставил написать возможно обстоятельный ответ. Впрочем, скоро втянулся, и письмо получилось взволнованное – я мог наконец удовлетворить свои незабытые обиды, перенеся в действительность всю долгую тяжбу с Лелей, до этого лишь воображенную и бесцельную. Мне захотелось по-настоящему (пускай грубо) Лелю задеть, безжалостно добить указанием – будто бы дружеским, – что в таком положении, как у нее с Сергеем Н., явно нелепом и безнадежном, нельзя оставаться насильственно связанной, зависеть денежно и не искать выхода. В сущности, я вскипел от мысли, что ради этого положения Леля пожертвовала мной, только мне бы следовало в честных и мужественных словах противодействовать, бороться, приняв всю ответственность за упреки на одного себя, но я из осторожности или показной деликатности предпочел прибегнуть к другому, многим свойственному, приему, состоящему в том, чтобы опереться на чужое мнение, предположенное или вымышленное, и под его охраной сказать всё ядовитое, опасное и злое, чего никак не выговорить ни написать (обычная формула: я сам широк и терпим, но вот ваши родители – в иных случаях друзья, критики или присяжные – не согласятся и возразят следующее). Я привел несомненное возражение Катерины Викторовны: «Бедная женщина, воображаю, как ей неловко и неприятно видеть ваши отношения и самой невольно в них участвовать – при ее независимости и старых понятиях». О своем недовольстве я писал сдержанно – что не могу судить на расстоянии, что решил с самого ее отъезда не вмешиваться, что знаю в трудные минуты неожиданно-счастливое ее благоразумие – и в нескольких словах описывал свои дни, причем, как это часто бывает, я и сам помнил лишь более достойные, последние: «Ни с кем не встречаюсь и никого не хочу видеть, мне одному никогда не скучно. Вильчевские, к которым давно не ходил, были всё время внимательны и милы. Посоветуйте, не поухаживать ли за Зинкой, она очень со мной приветлива и явно одна скучает».
Не понимаю, зачем был высказан такой полухвастливый и неверный намек – чтобы подразнить Лелю или от какой-нибудь внутренней, не совсем ясной причины: у меня странное свойство в своих утверждениях никогда не «выдумывать» (если только эти утверждения не являются умышленною ложью) – каждое «выдуманное», нечаянно брошенное о себе утверждение, о котором потом сожалею и которое хотел бы уничтожить и вернуть, в конце концов делается правдой, как будто жизнь довносит недостающее, спасая поколебленную мою честность, или как будто я сам многое вижу, что не доходит до сознания, недостаточно внимательного и что мне же раскрывается в неожиданных собственных, словно бы чужих, словах. Всё это вспомнилось из-за намека о Зинке, произвольного и, по обыкновению, оправдавшегося.
В последние дни (как об этом писал Леле) я ни разу не зашел к Вильчевским, избегая встреч с Идой Ивановной: мое отношение к ней совсем не доброе и не рыцарское, какое было у меня к Леле и в наивных вымыслах – ко всякой другой женщине. Правда, мне иногда хочется – особенно ночью, когда я досадую, что один, и навязчиво вижу Иду Ивановну такою, как в тот пьяный вечер, – мне хочется именно с ней, опять подчинившейся и наслаждающейся, вдруг очутиться вдвоем, но утром это бесследно исчезает: на людях и среди работы неминуемо должно победить трезвое, уже предвиденное мной сознание какого-то у нас несоответствия, какой-то необходимости скрыть стыдное наше сближение – если бы можно было встречаться ради немедленного удовольствия, без скучных и неискренних вступлений («по-животному», как презрительно объясняют матери впервые любопытствующим сыновьям), сколько бы оказалось длящихся крепких связей, сколько пощаженных женских самолюбий. Но обязательность вступлений и показывания близости (или – из джентльмэнства – что напрасно близости добиваюсь) с женщиной, душевно чужой, мне просто нестерпима, я откладываю и обещанный звонок по телефону, и намеренно-случайную встречу, доводя свое уклонение до вызова, до невозможности что-то исправить и предпринять без нечаянного постороннего толчка. Таким необходимым посторонним толчком неожиданно явился Бобка.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.
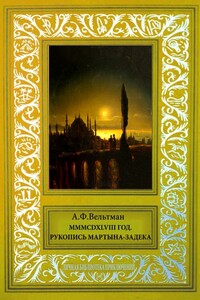
Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.
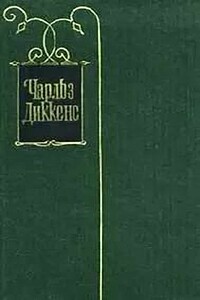
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.
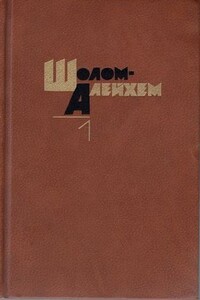
Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.