Собрание сочинений. Том 1 - [17]
Но весь этот строгий «кодекс» (менее последовательный, чем здесь представлено) бывает отброшен и забыт, как только я не один: от чьих-нибудь случайных слов, от неожиданной жалобы у меня соблазн помочь, растрогать, на прощанье дать уверенность в опоре, притом не выдуманной, а доказанной – во мне за годы уединения вдоволь скопилось нерастраченной глухой нежности, и часто она направлена на людей, со мною схожих, но более моего беспомощных, и несравнимо чаще – на женщин, хоть немного нравящихся. С этим же, вероятно, связана и другая, близкая, причина неразумной моей расточительности: у меня несчастливое свойство чересчур зависеть от женщин – еще гимназистом на балу я не мог после танца «сплавить» приглашенную скучную барышню и ждал освобождения от нее самой, чтобы не только радоваться свободе, но и сладко себя, обиженного, жалеть (этим как бы предвосхищая любовное свое будущее) – и теперь, наконец, достигнув безразлично-взрослой неуязвимости, если нечаянно в кафе заговорю с накрашенной простенькой соседкой, не решусь подняться, уйти, внезапно ее разочаровать, и должен непременно по-наивному на нее тратиться.
Так было и сегодня: я почти против воли, полурассеянным жестом, пригласил к своему столику в дешевом оживленном кафе краснощекую девочку, бойко игравшую с подругами в карты, когда же она подошла, с трудом оторвался от воображаемого романа, обыкновенно заполняющего спокойные мои часы, кое-как стал поддерживать обязательный условный разговор, потом растрогался из-за одного выражения (мне показалось, достойно и мило произнесенного), захотел помочь, но сразу вспомнил, что невозможно, что отнимаю только рассчитанное нужное время, и всё это я с неловкостью объяснил.
Фраза, меня удивившая, в сущности была обычной (на вопрос о друге – «Non, je me defends toute seule»), и, быть может, самый тон превратил ее и в достойную и новую, но что-то есть недоступноизысканное в готовой парижской скороговорке, уравнивающей все круги (кроме разве «интеллектуального», как и большинству русских, мне неизвестного) и настолько их сближающей, что немногим отличается от недавней моей приятельницы тот веселенький, богатейшей семьи, старичок, от которого зависит мое дело и который при каждом упоминании о беженских наших несчастиях, о шоферах-гвардейцах, о титулованных манекеншах, негодующе-горестно восклицает: «ai, ai, ai’ quel cataclysme» – и возможность такого сопоставления (прирожденнобогатый барин и девочка с улицы) и чудо, что девочка с улицы в себя впитала эти ловкие обороты и безошибочный, никогда не сбивающийся тон, меня поневоле озадачивают и трогают.
Перечитываю сегодняшнюю страницу и поражаюсь – в который раз, – до чего написанное мной, от упорной погони за точностью, сильнее и резче подуманного, увиденного, как мало соответствует такая «точная» запись (хотя и добросовестно-верная, но сгущенная тяжестью слов и непонятным моим упрямством) первоначальному расплывчатому наблюдению. Правда, есть и совсем неотмеченное – и среди другого тот воображаемый роман, о котором впервые пишу, о котором мне странно думать привычными, что-то обозначающими словами – настолько весь он поверхностно-легкий, бессловесный, невоплощенный. Я придумал его в шестнадцать лет, когда только появились у меня нетерпеливые завистливые предчувствия и еще не прибавилось опыта, убивающего ставшее ненужным воображение, и с какой-то упрямой вялостью протащил через всю молодость, через приключения, как у каждого необыкновенные, лишь немногое от начала переменив по своим последующим желаниям и надеждам. Я годами себе рассказываю те же самые приятные подробности в редкие спокойные часы, отдыхающие от делового шума, от любовных забот и припоминаний: этот «роман» – мой отдых, всегда разряжение и бессознательность, и оттого не слышу, не замечаю слов, не улавливаю даже кончика фраз и, во что-то погруженный, блаженствую: ведь рассказываю о себе, каким хотел бы сделаться, каким незаметно становлюсь.
Эти гладкие знакомые подробности, полугрустное их спокойствие чередуются с волнением о Леле, неподдельность которого сразу распознаю и которое ко всему примешано, что бы за день у меня ни происходило: им обостренно задеваются и «роман», и денежная глупая лихорадка, и на улице рассеянное любопытство, и дома зачитанные стихи, сладко укачивающие или неожиданно ранящие – и каждое дневное ощущение так же естественно меня к Леле приводит, как трудно от него же оторваться для уточняющей и скучно-расчетливой записи, которая сегодня мне кажется (может быть, из-за Лелиного приближения) особенно мертвой и сухой.11 декабря.
Деньги сегодня утром получил, и они, избавив меня от унизительной противной беготни, от необходимости себя по-нищенски ограничивать, от злой и жалкой, в случае неуспеха, горечи, от всего неприятного и скучно-отвлекающего – эти деньги как бы приоткрыли и показали мне Лелю. Я благодарный, даже намеренно благодарный человек – ведь лучше, достойнее, просто выгоднее долгими днями радоваться удаче, чем еле-еле, высокомерно, ее отмечать – и я нарочно себе не раз напоминаю, что вот по-спокойному хорошо (если изредка – хорошо), насколько могло быть хуже, какие обойдены препятствия, какие опасности случайно не помешали. Мне также хочется себе доказать, что эта радость – не облегченный вздох неврастеника после томительно-вялой и как-нибудь законченной, наполовину брошенной работы, а то справедливое удовлетворение, которое нам дается заслуженно-достигнутым успехом – и что если бы сейчас возникло внезапное новое препятствие, я был бы опять готов немедленно работать и бороться. Последнее даже верно, но готовность бороться и работать у меня волевая – против природного отвращения ко всякому труду или борьбе, а радость окончания, оглядки как раз неврастенически-ленивая, и всё добросовестное мое упорство – вероятно, лишь следствие самоуважения, кровной потребности что угодно (как будто напоказ) совершенствовать, унаследованной привычки лояльно и безропотно подчиняться любому долгу или порядку, хотя бы и навязанному извне.

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам.

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина. Особое место в ней занимал корифей раннего русского модернизма, поэт Константин Бальмонт (1867–1942), друживший и сотрудничавший с Людмилой Савицкой.
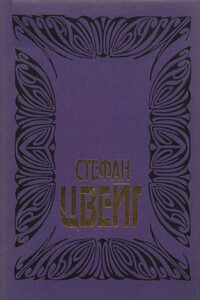
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
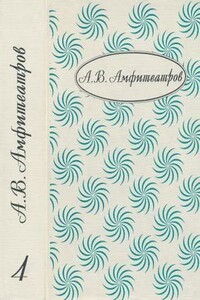
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
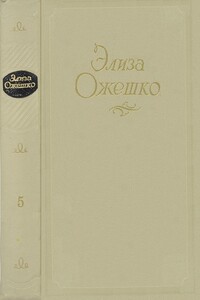
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».