Собеседники на пиру - [6]
Жизнь человека прекрасна, пока он находится на том же органическом уровне — или вблизи него. Таковы табунщик Нестер, конюх, кучер. Характерно, что в их жизни царит язык минимальных знаков (движения и междометия табунщика; «выражение длинной спины» конюха; слезы кучера с их «приятным соленым вкусом»). Это уровень телесного языка. Слова этого мира глубоко конкретны (ср. нагнетение коннозаводческих и анатомических терминов). Однако в человеческом мире есть и другой уровень — уровень пустых (избыточных) знаков, расчлененной, отчужденной, кастрированной жизни. Этот уровень дан в сценах с постаревшим Серпуховским.
Многие замечали, что эти сцены не лишены публицистичности, назойливого «толстовства». И все же в кратких, рубленых диалогах, отмеченных печатью актерства и лжи, противостоящих длинному «монологу» Холстомера, передано нечто существенное. Все здесь дискретно, все распадается. Мир замкнут и душен — в противовес разомкнутому миру природы; он перенасыщен цифрой и мерой, изобилует повторениями; человек в нем отождествляется с предметом — так, говорится о выгнутой позе беременной хозяйки и вслед за тем о гнутой, изогнутой мебели, т. е. женщина оказывается как бы родом мебели[32]. Это мир, где только стыд и страх есть некая защита от полного омертвения. Даже смерть в нем поддельна, окружена коконом условных знаков: гроб у Серпуховского тройной, хотя сама его плоть есть гроб, реализация евангельской метафоры о «гробе повапленном».
А ведь когда-то Серпуховский был иным, «любил и умел пожить» не в мире пустых знаков, а в мире истинной страсти. И тогда Холстомер его понимал не хуже, чем табунщика Нестера:
«Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить».
С точки зрения позднего Толстого, такая жизнь аморальна; но он не в силах скрыть свое любование этой полной и напряженной жизнью, протекающей на том же органическом уровне, что и, скажем, жизнь Вязопурихи (кстати, не анаграмма ли скрыта в именах двух любимых Холстомера — Вязопурихи и Серпуховского?).
Именно здесь основное отличие «глубинной структуры» Толстого от «глубинной структуры» Свифта. У Свифта отвратительная биологическая жизнь непримиримо враждебна жестокому разуму; у Толстого жизнь, где плоть и разум примирены и не скованы цепями ложных знаков, не только мыслима, но и необходима. Свифт неизбывно драматичен, как Аристофан, как Еврипид; Толстой победительно эпичен, как Гомер[33].
О Чехове как представителе «реального искусства»
Люди, львы, орлы и куропатки…Антон Чехов. Чайка
медведи волки тигры звериеноты бабушки и двериАлександр Введенский. На смерть теософки
Название этой работы — как, вероятно, догадается любой специалист по русской литературе XX века — не имеет ничего общего с традиционным определением Чехова как реалиста. Речь идет об «Объединении реального искусства» (ОБЭРИУ) — группе писателей, работавшей в Ленинграде в конце 20-х годов. Сегодня эта группа, преданная забвению в сталинский и ранний послесталинский период, привлекла внимание исследователей как в России, так и за ее пределами[34]. Творчество ее участников, прежде всего Александра Введенского и Даниила Хармса, на несколько десятилетий опередившее западную «школу абсурда» (Беккет, Ионеско и др.), признано значительным явлением русской и мировой культуры. Множество произведений Введенского и Хармса сейчас издано, хотя работу по их публикации и комментированию нельзя считать завершенной.
«Реальное искусство» отличается редкостной причудливостью, нарушающей практически все законы литературного дискурса и так называемого «здравого смысла». Найти для него прецеденты — не самая легкая задача. Указывалось на связи и параллели обэриутов с фольклором и творчеством детей, с русскими классиками XIX века (Пушкиным, Гоголем, Достоевским), с Хлебниковым, с литературой романтического гротеска, а также с такими авторами, как Кнут Гамсун, Льюис Кэрролл, Христиан Моргенштерн. Сам Даниил Хармс в сочинении «Сабля» в числе близких ему авторов упомянул Гёте, Блейка и Ломоносова. Поиски предшественников ОБЭРИУ в области высокой литературы вполне оправданны, ибо Введенский и Хармс — при всей своей кажущейся несерьезности и склонности к эпатажу — несомненно ставили перед собой и своим творчеством мировоззренческие (философские, семиотические, а также чисто научные) задачи.
Однако опыты обэриутов имеют и другие, не всегда в достаточной мере учитываемые источники: литературу «малых» и фамильярных жанров, «домашние» рукописные журналы, пародию и автопародию, альбомную и эпистолярную шутку, стоящую на грани дружеского розыгрыша, а с другой стороны — массовую юмористическую литературу, склонную к обыгрыванию нелепостей, недоразумений, гиперболизированных и «вывернутых наизнанку» ситуаций

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
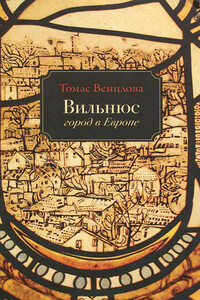
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

Наталья Алексеевна Решетовская — первая жена Нобелевского лауреата А. И. Солженицына, член Союза писателей России, автор пяти мемуарных книг. Шестая книга писательницы также связана с именем человека, для которого она всю свою жизнь была и самым страстным защитником, и самым непримиримым оппонентом. Но, увы, книге с подзаголовком «Моя прижизненная реабилитация» суждено было предстать перед читателями лишь после смерти ее автора… Книга раскрывает мало кому известные до сих пор факты взаимоотношений автора с Агентством печати «Новости», с выходом в издательстве АПН (1975 г.) ее первой книги и ее шествием по многим зарубежным странам.

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.