Собеседники на пиру - [225]
Антракт подходит к концу; занавес меняет род, превращается в священную завесу, уже раздуваемую дыханием трагедии (Бога), уже готовую упасть (вознестись); близится то ли сотворение, то ли спасение (вернее, сотворение и спасение) мира. Это срединная точка стихотворения.
Следующий катрен — сразу после медианы — вероятно, важнейший. Все предшествующие катрены состояли из одной, двух или трех фраз; этот состоит из шести. Кроме того, как мы уже говорили, он выделен на ритмическом уровне: короче всех (30 слогов) и напряженнее всех (16 слогов — больше половины! — ударны). На грамматическом уровне отмечены императивы — как бы императивы семи дней творения. Словом, приказом (Логосом) создается низ и верх (ложи и ярус), время (срок) и наконец человек (герой). Если же посмотреть на дело с профанической стороны, речь идет о месте, времени и действии — т. е. тех же трех единствах классической трагедии. Мир совпадает с эмоцией его создателя: ложи как бы превращаются — и по звуку, и по смыслу — в слезы (17), в слове ярус (17) проступает ярость, набат (17) почти рифмуется с будь (18).
«Я никогда не буду знать, есть Вы или нет», — писала Цветаева Пастернаку; именно поэтому она заклинает его словом будь, создает его стихом. «Будь — единственное слово любви, человеческой и Божеской» (дневник 1917 года — цит. по: Цветаева, 1965, с. 738).
Занавес сейчас даже больше, чем завеса в храме: это парус (19), носящийся над простором первозданных (несозданных) вод, это грудь (20), равнозначная Духу над бездной. Совмещается ветер, раздувающий парус извне, и дыхание, вздымающее грудь изнутри. В четыре строки вмещена картина творения мира — т. е. текста (или же адресанта и адресата).
Шестой катрен открывается блистательным оборотом: вместо клишированной фразы из последних сил сказано из последнего сердца. По звуку и смыслу слово сердце близко к слову недра (21). Впрочем, недра — то, что глубже последнего сердца: это ты, вмещенное в я. Поэт все еще пытается остановить смертный ритуал, акт совпадения жизни с искусством. Повторено слово загораживаю (22); и после этого шестисложного, «шестипалого» (Ходасевич), гипердактилического, бесконечно продленного глагола следует кратчайшее существительное, кратчайшее из возможных предложений — взрыв.
Если сон, наркоз — это Пастернак, то взрыв — это сама Цветаева (ср. популярную интерпретацию Пастернака как поэта замкнутости, Цветаевой как поэта разомкнутости — Лотман Ю., 1969б, с. 471–472). Строфа разомкнута, взорвана изнутри, как ни одна другая, целыми пятью тире. Одно из этих тире — как бы в вакхическом исступлении — разрывает живое слово: ужá-ленною (ср. параллелизм: за уже — над ужá-, 15–23). Взрыв (22) сопряжен с глаголом взвился (24). Направления словно переставлены взрывом: завеса упала, т. е. поднялась. Переставлен также род: герой, вызванный из небытия, оказался героиней, Федрой (23). Портрет Пастернака оказался автопортретом Цветаевой (ср. Бродский, 1980, с. 39). В полуслове ужá- просвечивает мифический уж, змей-искуситель; полуслово — ленною может быть внутренне дополнено читателем — до слов пленною, тленною, погубленною, (Бого)оставленною, а также жаленною (ср. «Любимый! желанный! жаленный! болезный!»). Этот прием можно назвать морфологическим эллипсисом — по образцу синтаксического, столь излюбленного Цветаевой. Замечательно то, что Федра оказывается «на мифологической вертикали», как бы на мировом древе, с ужом у ног и смертной птицей над головой (гриф, 24, фонематически связан со словами загораживаю, 22, и Федрой, 23).
Этот катрен трудно давался Цветаевой, три его версии были отвергнуты. В отброшенных вариантах есть мандельштамовская Мельпомена, есть слова трагического единства, есть перевод имени Марина (над разверстыми морями). Именно эти поиски говорят о его существенности.
Седьмой катрен (ср. тему «седьмого дня» и «седьмого неба»; ср. также замечания Цветаевой в письме Рильке от 12 мая 1926 года — Азадовский, 1978, с. 250) — единственный, описывающий не антракт, а самое действие. Он состоит из семи фраз с пятью восклицательными знаками (и то и другое — самое высокое число в тексте). Четыре фразы, как и в пятом катрене, императивны. В звуковом плане повторяется тема недр («нате!рвите! глядите!», 25), причем именно разверстых, взорванных, терзаемых грифом. Палиндромоническое слово течет (25) связано со словом чан (26; ср. «(будьте)…: тем бездонным чаном, ничего не задерживающим» — в письме Пастернаку от 14 февраля 1923 года, цит. по: Цветаева, 1972, с. 282). Слово кровь табуировано, дано лишь метонимически (в слове рану с «державинским» эпитетом державную, 27; в эпитете рдян, 28) и анаграмматически (рвите — рану — капли, 25–27 и т. д.). Ударные гласные (семь ударных а подряд) становятся выкриком. Жилы вскрыты: словесная коммуникация стала ритуальной, т. е. биологической, телесной (ср. Фарино, 1973, с. 152–153). Здесь несомненны эротические коннотации (

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
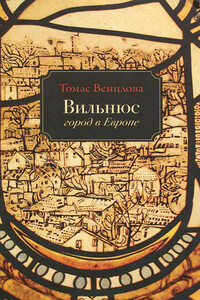
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

В первый раздел тома включены неизвестные художественные и публицистические тексты Достоевского, во втором разделе опубликованы дневники и воспоминания современников (например, дневник жены писателя А. Г. Достоевской), третий раздел составляет обширная публикация "Письма о Достоевском" (1837-1881), в четвёртом разделе помещены разыскания и сообщения (например, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения), обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел.
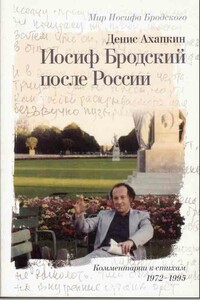
Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.