Собеседники на пиру - [2]
Именно вторая жанровая структура, как мы уже говорили, приближает Толстого к Свифту, и здесь показательно, что его особый интерес к английскому автору приблизительно совпадает по времени (точнее, по эпохе творческого развития) со второй редакцией повести.
«Холстомер» и «Путешествие в страну гуигнгнмов» построены на одинаковом парадоксальном обращении ролей животного и «мыслящего животного» — человека. Пегий мерин, с юности показывавший «склонность к серьезности и глубокомыслию», явно сродни наблюдательным и рассуждающим гуигнгнмам. Его хозяин Серпуховский в эпилоге повести три раза характеризуется почти одинаковым образом, но так, чтобы нарастали физическое отвращение и сарказм: «ходившее по свету мертвое тело», «тотчас же загнившее, пухлое тело», «гниющее, кишащее червями тело». Здесь, в эпилоге, он почти совпадает со свифтовским йэху — омерзительной плотью, для которой разум заменяют экскременты, а дух оборачивается кишечным запахом. Холстомер, как и гуигнгнм — собеседник Гулливера, задумывается «над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми»; оба, Холстомер и гуигнгнм, приходят к совершенно одинаковому выводу: «Мы […] смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди». Центральные главы «Путешествия в страну гуигнгнмов» посвящены ироническому исследованию цивилизации. Гуигнгнм с помощью Гулливера, прибегающего к иносказаниям, знакомится с понятиями денег, закона, промышленности, торговли, правительства, войны, догматической религии, с человеческими пороками, человеческой медициной, человеческой диетой. Любая человеческая институция, с точки зрения гуигнгнмов, оказывается неестественной и, прежде всего, нерациональной. Мир людей оказывается «миром наизнанку», где преимуществами обладает не лучший, а худший. Любопытно, что Гулливер рассказывает гуигнгнму и о судьбе лошади среди людей (эта судьба вплоть до деталей совпадает с судьбой Холстомера). Любая из радикальных инвектив Свифта могла бы быть практически в тех же терминах повторена Толстым. Правда, Холстомер сосредоточивает свой гнев на одном неестественном, с его точки зрения, феномене: это «низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности». Пожалуй, здесь точнее говорить не о свифтианстве Толстого, а о его руссоизме (либо прудонизме, как заметил Борис Эйхенбаум). Но толстовство как цельная система отвергает все те явления, которые отвергает свифтовский гуигнгнм: как и Свифт, поздний Толстой оказывается очередным звеном в древней и устойчивой традиции антицивилизационных утопий.
И всё же при более пристальном рассмотрении позиции Свифта и Толстого оказываются несовпадающими, даже противоположными. Это превосходный пример внешнего сходства текстов при существенном несходстве глубинных семиотических структур, генерирующих эти тексты. Здесь допустимо говорить о текстовой омонимии (по аналогии с омонимией словарной, синтаксической и т. п.)[20].
Свифт как бы доводит до крайности и абсурда богословское раздвоение человека на высшее и низшее начала, на дух, стремящийся к своему Творцу, и на падшую плоть. Оба полярных начала даны как противоположные роды существ: и тот, и другой род заключает в себе «половину человеческого».
Гуигнгнмы определяются как высшее, духовное, рациональное. При этом Свифт прекрасно осознает, что рациональность неотделима от знаковости. Мир гуигнгнмов — это мир культуры (различий, условностей, иерархий, строгих семиотических систем). Слово знак (англ. sign) — одно из самых частых существительных «Путешествия в страну гуигнгнмов». Следует заметить, что Свифт очень тонко показывает нарастание знаковости в общении героя с мыслящими лошадьми: общение начинается с простейшей символики жестов, переходит к сочетаниям звуков, затем речь идет уже о «знаках и словах» (signs and words), «словах и предложениях» (words and sentences), «сообщениях» (messages), наконец, между Гулливером и его хозяином завязываются «беседы» (regular conversation). Таким образом, описан не только процесс обучения языку, но и как бы сам процесс глоттогонии, семиозиса.
Язык гуигнгнмов предполагается более совершенным, чем человеческий язык: Гулливер жалуется, что ему трудно переводить выражения своего хозяина «на наш варварский английский» (into our barbarous English). Дело в том, что язык гуигнгнмов является как бы «чистой информативностью»: на нем невозможно выразиться неточно, высказать ложь; для многих (предположительно неразумных) категорий в нем не предусмотрены и даже немыслимы слова. Кстати, у гуигнгнмов нет письма (быть может, потому, что письмо создает возможность истории, а история неотделима от сомнений и ошибок). Эта идеальная знаковая система проясняет мышление, но и резко ограничивает его. Она весьма напоминает «философский язык» лейбницевского типа и в то же время, увы, подозрительно похожа на оруэлловский новояз.
Мир гуигнгнмов вообще оказывается сомнительным, амбивалентным — при всей кажущейся симпатии Свифта к нему. Это отнюдь не демократическая утопия. Культура гуигнгнмов построена по образцу республики Платона. Она сводится к зачаткам науки и производства, но прежде всего к физическим упражнениям и к пиндарическим песням в честь победителя. У гуигнгнмов развито чувство

Чеслав Милош не раз с улыбкой говорил о литературной «мафии» европейцев в Америке. В нее он, кроме себя самого, зачислял Станислава Баранчака, Иосифа Бродского и Томаса Венцлову.Не знаю, что думают русские о Венцлове — литовском поэте, преподающем славянскую литературу в Йельском университете. В Польше он известен и ценим. Широкий отклик получил опубликованный в 1979 г. в парижской «Культуре» «Диалог о Вильнюсе» Милоша и Венцловы, касавшийся болезненного и щекотливого вопроса — польско-литовского спора о Вильнюсе.
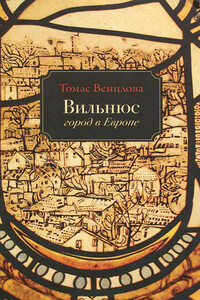
В книге известного поэта и филолога, профессора Йельского университета Томаса Венцловы столица Литвы предстает многослойной, как ее 700-летняя история. Фантастический сплав языков, традиций и религий, существовавших на территории к востоку от Эльбы независимо от политических границ, породил совершенно особый ореол города. Автор повествует о Вильнюсе, ставшем ныне центром молодого государства, готового к вызову, который зовется Европой. Офорты - Пятрас Ряпшис (Petras Repšys)

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.