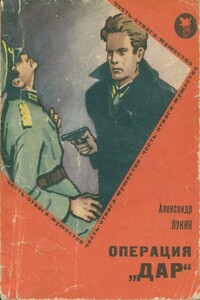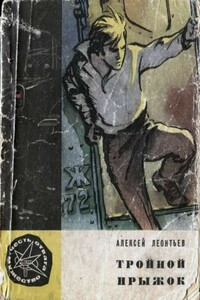— Кто пойдет за кипятком? — еле ворочая языком и не поднимая головы со столика, вопросил старшой жандарм.
— Всех трезвей Соколов, — кивнул на меня атлет. — Ему и идти в наказание: надо было пить больше!
— Да он привык, — подхватил бородатый. — Заправским водоносом заделался.
— Пойдем, Соколов. — Усатый жандарм непослушными пальцами пытался застегнуть распущенный ремень. — Сейчас мы с тобой… — Но ремень никак не желал застегиваться. — А, ч-черт!..
Сережа некоторое время наблюдает его тщетные старания сладить с поясом, а потом вмешивается:
— А чего тебе ходить, служба? Даже неловко — не дай бог, кто тебя в таком виде узрит из начальства. Пустите Соколова одного.
— Одного?
— Он без памяти рад, что вы его бесплатно до маменьки довезете.
— Пуск-кай… идет од-дин, — начальственным тоном выговаривает старшой, приподнимая голову от стола. — Я никогда… никогда за ним не смотрел… Он сам за кипятком… и в буфет тоже… Д-дуй, Соколов, только… — он грозно поднял палец, — поб-быстрее!..
— Ладно, я что, я схожу. — Я слез с полки. — А поезд не уйдет без меня?
— Не уйдет, не уйдет, — успокоил меня атлет.
— Не им-меет права, — властно добавил молодой жандарм и снова уронил голову.
Усатый, выудив из кармана, вручил мне ключ.
— Постой, — напутствовал меня бритый студент, — чайник в сортире сполосни!
В уборной я быстро надел студенческую тужурку, схватил под мышку фуражку и выскочил на платформу.
Между нашим составом и платформой, на первом пути, стоял еще один пассажирский поезд. На вагонах трафареты: «Рига — Москва». Да это тот самый курьерский! Его паровоз тяжко отдувался, дыша все чаще и чаще. Ударил колокол. Два. Три. Паровоз откликнулся свистком. Сейчас тронет!
Я подбежал к хвосту курьерского, вскочил на буфер и спрятался в «гармошке», защищающей переход из одного вагона в другой. Паровоз мягко взял с места…
Все чаще и чаще колесный перестук. И в такт с колесами билось радостью мое сердце: «Сво-бо-да! Сво-бо-да! Сво-бо-да!..»
Я мчался в Москву, мчался к товарищам, мчался навстречу новой борьбе, навстречу готовому вспыхнуть кровавому пожару мировой бойни, за которым там, впереди, уже брезжил живой свет тысяча девятьсот семнадцатого…
* * *
Мне выпало великое, ни с чем не сравнимое счастье быть рядовым бойцом старой ленинской гвардии. С юных лет моя жизнь всецело принадлежит нашей великой партии. Это моя гордость. И нынче, обозревая пройденный путь с вершины почти что восьмидесяти лет, я думаю о том, что если бы мне были даны не одна, а две или три жизни, я не хотел бы ничего иного, как прожить их так же, как прожил эту, к сожалению, — единственную…