Снега Арарата - [3]
— Помоги мне, — попросил Гурден, и я подтолкнул его сзади; проникнув в пещеру, он протянул руку и втянул меня вовнутрь.
Я говорю «вовнутрь» — и вновь переживаю восторг, который ощутил в ту минуту, наивную надежду, что вот сейчас я увижу циклопов, замурованных в твердой материи… Выраженная таким образом, моя надежда кажется смешной. Разумеется, я не верил в существование прикованных великанов и не надеялся обнаружить их, подобных огромным окаменевшим ракушкам, слившимся с горой. Я даже сам не знаю хорошенько, чего я ждал, все слова кажутся мне слишком тяжелыми, и моя тогдашняя надежда темнеет и исчезает, когда я пытаюсь втолкнуть ее в избитые трафареты. Но произнеся слово «вовнутрь», я на минуту испытал восторг той минуты. Свежее и глуповатое чувство, настолько наивное, что для того, чтобы дать о нем представление, мне пришлось упомянуть о циклопах. Простое воспоминание, слово, благодаря которому я вновь переживаю мечты детства и неповторимый восторг тех лет.
Но, повторяю, я ничего не подозревал. Просто переживал это благословенное состояние, делавшее меня восприимчивым, предрасположенным к чуду, уверенным в том, что со мной что-то случится — встреча через много лет с восторгом детской поры, когда человек ничего не знает, но все предчувствует, воскрешая мифы и переживая чудеса.
Может быть, вы даже не сможете меня понять. Наверняка, не сможете… Поэтому я просто прозаически сообщу вам, что я зажег второй фонарь… Согнувшись, мы шли друг за другом, словно прижимаемые к земле тяжестью каменного свода. Пахло породой, сыростью и темнотой. Тишина была настолько полной, что, сквозь стук наших шагов по каменному полу, я слышал удары собственного сердца.
Вскоре мы смогли распрямиться и наши фонари осветили большое помещение, в котором могла развернуться машина, оставленная мною на шоссе. Стены и пол были пусты, и мы вопрошали себя, как долго никто не ступал по этому сточенному камню. Может быть, никто вообще не проникал сюда? Но это казалось маловероятным. Более или менее крупные пещеры находятся в стенах всей долины — туннели, сквозь которые в незапамятные времена текла лава. Но все они уже изучены. Я знал, что люди пользовались ими еще тогда, когда зарождались первые воспоминания человеческого рода. В большой пещере Тиграна, расположенной не более чем в километре от того места, где мы сейчас находились, угли, оставляемые пастухами, еще и сегодня жарящими там шашлык, чернеют всего на ладонь выше очага человека, пользовавшегося ножами из обсидиана.
Теперь пещера заворачивала налево и свод опускался так низко, что нам пришлось ползти по каменному коридору. Но вскоре мы оказались в зале, еще большем, чем первый, и прежде чем лучи фонаря осветили его, наши взгляды поразило красноватое свечение посередине пола. Сначала мне показалось, что это костер.
Но не успел я задуматься о том, насколько это невероятно, как свет наших фонарей упал на него. И мы различили на полу огромного каменного зала сосуд необычайной формы.
— Поверни фонарь! — воскликнул я. Гурген понял меня, и мы оба перевели лучи фонаря на стену.
Сосуд остался в темноте. И тут же, как я и ожидал, красноватое свечение возникло снова. Сверкающий клубок предсказывал присутствие чудесного, которое я уловил инстинктивно.
— Это еще что такое? — воскликнул Гурген.
С комическими предосторожностями он приближался к сосуду. Сказать ему, что перед ним чудо? Чудо, воплотившееся в металлический сосуд высотой примерно в полметра, совершенно необычайной формы — потому что, понимая, что он что-то напоминает, я никак не мог уловить, какие элементы действительности отразились в его выразительных контурах. Я сказал «выразительных». Слово может показаться не слишком подходящим, поскольку я только что упомянул о бессилии этих форм выразить что-либо определенное. И все же, хотя они и не говорили мне ничего определенного, я чувствовал, что они были созданы именно для того, чтобы что-то выразить, что они были в состоянии выразить что-то. Виной тому, что я не понимал, о чем идет речь, было, может быть, мое собственное бессилие. Мне казалось, что передо мной смысл более скрытый, чем давно забытое значение сфинкса, более чужой, чем слово, произнесенное на незнакомом языке, но столь же далекий от случайной комбинации произвольно выбранных форм. Короче говоря, я чувствовал в создании сосуда какое-то намерение, но не мог угадать, какое именно.
Вместе с Гургеном мы рассматривали линии странных объемов, соединенных в стоявшую на полу форму, какое-то чудо равновесия, таинственное соотношение высоты и ширины, использованных настолько необычно, что сосуд должен был иметь вместимость намного большую, чем это казалось на первый взгляд. Подробное описание округлостей различного размера, сплавленных воедино волн и изгибов превысило бы не только мои способности, но и возможности языка, ибо такое соединение форм (которое было в то же время гармоничным и — говорю еще раз — выразительным) невозможно описать словами. Но не забывайте при этом, что сосуд был вылит из металла, красноватого и блестящего, и что, несмотря на сырость, он сохранился так хорошо, как будто был сделан только что.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Джованна и Витторио уже несколько лет жили вместе и безумно любили друг друга. И лишь отсутствие детей печалило Джованну. Однако медицинские тесты не находили никаких противопоказаний для возможности завести малышей. Создавалось впечатление, что некий рок или проклятие витает над ними…

Рассказ о том, что увидел и, что понял инопланетянин, который впервые прибыл на Землю с целью её изучения на предмет наличия на планете разумной жизни.
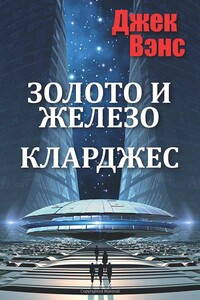
В данную книгу вошли два ранних романа Джека Вэнса — «Золото и железо. (Рабы Клау)» (1952) и «Кларджес. (Жить вечно)» (1956).Золото и железо (Рабы Клау):Рой Барч, первый землянин, захваченный рабовладельцами-клау и отправленный ими на планету Магарак, должен был решить задачу сверхчеловеческой сложности — найти способ вернуться на Землю и предупредить людей о космической угрозе. Иначе все население его родной планеты могло вскоре оказаться в рабстве у инопланетян.Кларджес (Жить вечно):Гэйвин Кудеяр тщательно скрывал свое прошлое.
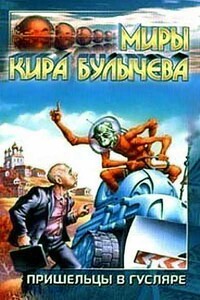
Где-то далеко в космосе умирают маленькие, пушистые крупики, им надо помочь. И вот Корнелий Удалов в дождь и слякоть отправляется…, нет не в космос, а на окраину Великого Гусляра — именно там находится спасение крупиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Вот так бывает, подписал договор и оказался далеко от дома. Теперь задача вернуться, но это не просто.

Простите, что без предупреждения, но у меня есть к вам один разговор. Я, Тогаши Юта, в средней школе страдал синдромом восьмиклассника. Синдром восьмиклассника, настигающий людей, находящихся в переходном возрасте, не затрагивает ни тело, ни ощущения человека. Заболевание это, скорее, надуманное. Из-за него люди начинают видеть вокруг себя зло, даже находясь в окружении других людей, но к юношескому бунтарству он не имеет никакого отношения. Например, люди могут быть такого высокого мнения о себе, что им начинает казаться, что они обладают уникальными, загадочными способностями.
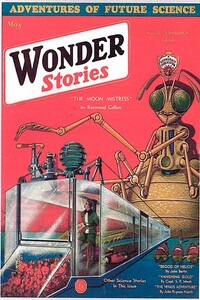
Когда исследователи прилетели на Венеру, они думали, что оказались в диком, первобытном мире. Но все оказалось не совсем так....
