Смысл вероучения и формы культуры - [3]
Нелишне вспомнить, что даже мирное паломничество ко Святым Местам, непрерывно существовавшее в обиходе христианской набожности с позднеантичных времен, институционализировавшееся в Средние века, эмоционально, порой сентиментально окрасившееся в Новое время, все же не имеет и не может иметь в контексте христианской системы столь необходимого и неоспоримого значения, которое оно имеет по логике систем иудаизма и ислама; некоторые Отцы Церкви высказывали серьезные возражения против практики паломничеств. Принцип сакральной географии оспорен уже тем, что Сын Человеческий не имел на земле места, где приклонить главу.
И хотя христиане обязаны снова и снова строить для христианства земной дом — христианскую культуру, — христианство снова и снова убеждается в том, что у него на земле такая же участь, как и у его Основателя.
***
Таков тезис. Теперь перейдем к антитезису.
При всей своей географической бездомности христианство глубоко укоренено в истории; эта его черта имеет очень интенсивное вероучительное выражение. Христос пришел к людям, когда "исполнилось время" (Марк 1, 15); он был распят "при Понтийском Пилате" — имя римского магистрата как характеристика исторической даты включено в Символ Веры.
"Хронотопическая" локализация начала христианства поставила новую веру на границе двух традиций: иудейской и эллинской. Первая была религиозной, вторая — секулярно-культурной. Для всего Средиземноморья греческая культура стала к этому времени безоговорочно и абсолютно культурой вообще, универсальной по своему принципу, самосознанию и притязанию; ее нормам и стандартам добровольно подчинился победитель-Рим. В лице греческой культуры и эллинистической цивилизации христианство впервые повстречалось с "автономными" началами культуры как таковой, цивилизации как таковой.
Популярные изложения истории раннехристианской мысли обычно стремятся выделить и понагляднее противопоставить друг другу две тенденции: благожелательное уважение к античному наследию, так называемый христианский гуманизм — у одних авторов, анафемы языческим ценностям — у других. В некоторых случаях эта незамысловатая бинарная схема работает; нет сомнения, например, что апологет II в. Юстин Мученик относился к греческой философии с большим пониманием и респектом, чем его ученик Татиан, что сирийцы и копты в целом менее толерантны, да и попросту менее заинтересованы в классической культуре, чем большинство греков и римлян. Беда в том, однако, что вырванные из контекста эффектные цитаты, которые так оживляют популярное изложение, — как хорошо для этого годятся фразы Тертуллиана! — сами по себе доказывают немного. Взять того же Тертуллиана: уж в каких агрессивных парадоксах (построенных, кстати говоря, по всем правилам античной риторики) он поносил языческих философов, — а дело сводилось к тому, что здравой философией первозданного человеческого естества, той самой души, которая "по природе своей христианка", ему представлялся не платонизм и не аристотелизм, а стоицизм. У одних и тех же христианских авторов нетрудно отыскать декларации, вне общей связи как будто свидетельствующие о совершенно потивоположных типах отношения ко "внешней", мирской, языческой культуре.
Когда мы переходим от деклараций к практике, мы должны отметить, прежде всего, что без набора процедур, понятий и терминов, созданных греческой философией, традиционный тип христианской богословской рефлексии просто немыслим. Ключевое слово тринитарных споров, вошедшее в Символ Веры — homoousios, consubstantiatis, "единосущный", — есть философский термин, неоднократно встречающийся у Плотина, Порфирия и других неоплатоников. Или возьмем для примера процедуру дефинирования. Библии она чужда; во всем Новом Завете встречается лишь одна формализованная дефиниция, и притом в тексте, который выделяется своей близостью к эллинистическим нормам стиля. Но чем разработаннее становится церковная доктрина, тем охотнее она выражает себя в движении мысли от одной дефиниции к другой. Этим определяется на много, много веков характерный стиль катехизиса, руководства по догматическому богословию, по нравственному богословию и т. п. Даже у мистических авторов, писавших о том, что по сути своей "неизъяснимо", мы встречаем то же увлечение дефинициями.
Когда либеральная протестантская теология эпохи Адольфа Гарнака осознала проблему эллинизации христианской "керигмы" во всем ее объеме, она поняла эллинизацию, в общем, негативно — как фальсификацию, подмену, затемнение первоначального смысла. Однако здесь перед нами вопрос, на который едва ли возможен слишком простой ответ. Ранняя встреча с культурой греческого типа была содержательно, существенно важна для христианства. Переиграть историю невозможно, да и не нужно: "что Бог сочетал, того человек да не разлучает". У греческой культуры — на присущем ей секулярном уровне — есть универсальный смысл, созвучный христианскому универсализму. Вправду ли, однако, синтез платонизма и аристотелизма как philosophia perennis есть необходимое и достаточное философское осмысление христианской веры на все века и для всех цивилизаций? Полвека назад в определенных кругах было модно говорить о philosophia perennis, сегодня о ней не говорит, кажется, никто. Благоразумнее так и оставить большой вопросительный знак — и заодно признать глубокую правоту Отцов Церкви, в свое время столь противоречиво высказывавшихся об отношении между христианской верой и культурой язычников. Только притиворечивый ответ и был адекватным: только он учитывал одновременно потребность веры в культурной реализации — и ее принципиальную трансцендентность всякой культуре, о которой мы говорили выше.

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.
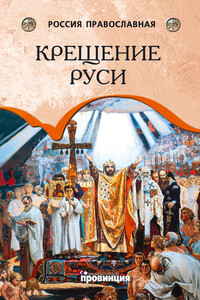
С какого времени следует вести отсчет истории Крещения Руси? С того дня, когда апостол Андрей Первозванный, по преданию, установил крест на Киевских горах? Или с Аскольдова Крещения Руси? Или, наконец, с признанного официально нашей Церковью и светской историографией Владимирова Крещения? Но что предшествовало установлению апостолом креста на Киевских горах? Ведь святой Андрей воздвигал крест не только во Славу Божию, но и для просвещения светом Христовой Истины прародителей восточных славян. Каков же был путь наших далеких предков ко Крещению в Днепре – путь к истинной вере?
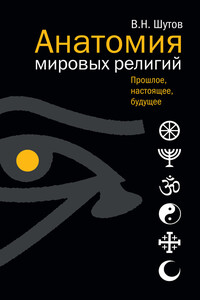
В своей работе автор проводит ретроспективный сопоставительный анализ различных религиозных учений, на этой основе выстраивает общую картину религиозной мысли, охватывающую многие ветви человечества от древнейших времен до наших дней.Используя результат данного анализа, автор оценивает потенциальные возможности и составляет прогноз развития этих учений на ближайшую и удаленную перспективу, делает вывод о былом существовании мощного первоучения, из недр которого произошло большинство современных религий мира.
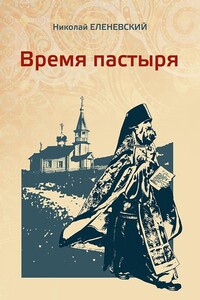
«Время пастыря» повествует о языковеде-самородке, священнике Лунинской Борисоглебской церкви Платоне Максимовиче Тихоновиче, который во второй половине XIX века сделал шаг к белорусскому языку как родному для граждан так называемого Северо-Западного края Российской империи. Автор на малоизвестных и ранее не известных фактах показывает, какой высоко духовной личностью был сей трудолюбец Нивы Христовой, отмеченный за заслуги в народном образовании орденом Святой Анны 3-й степени, золотым наперсным крестом и многими другими наградами.В романе, опирающемся на документальные свидетельства, показан огромный вклад, который вносило православное духовенство XIX века в развитие образования, культуры, духовной нравственности народа современной территории Беларуси.

В статье предлагается этимология прозвища Иуды «Искариот», возводящая его к еврейско-арамейскому глаголу סקר , sāqar/seqar, и существительному א(ו)ת , ’ōṯ/’ôṯ (широко засвидетельствованному в Еврейской Библии и встречающемуся в Талмуде [= арам. אתא ,את ]), так что само прозвище может интерпретироваться как «тот, кто видел знамение» (ср., напр., Ин 2:23; 4:48; 6:2, 14, 30, где упоминаются «видевшие знамения» [ἑθεώρουν τὰ σημεῖα; 6:2] и пошедшие вслед за Иисусом; использованные в этих стихах глаголы θεωρέω и ὁράω соотносятся с глаголом, סקר sāqar/seqar, «смотреть», «видеть», «вглядываться», а существительное σημεῖον (мн. ч.

Веками религия объединяла людей. Нужна она или не нужна – это вопрос, которого нет. Одним нужна, а другим не особенно. Но Вера нужна всем. Гонения на инакомыслящих, гонения на веру, межконфессиональные войны – сколько страданий и жертв принесла религия – это козырь тех, кто отрицает Веру как таковую.В данной книге рассказана жизнь Иисуса Христа, и подробно описано второе пришествие Христа. Книга будет интересна всем верующим людям.
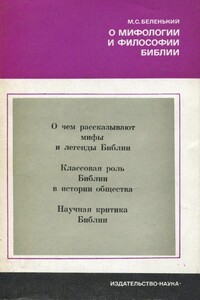
В книге показана классовая функция Библии в современном мире и разоблачены попытки идеологов антикоммунизма видеть в Библии богооткровенное сочинение и духовное средство спасения мировой цивилизации. Автор рассказывает о структуре Библии, времени ее создания, о той идеологической борьбе, которая велась и ведется вокруг Библии между теологами и атеистами. Основное внимание уделяется критическому анализу мифологии и философии библейских произведений.