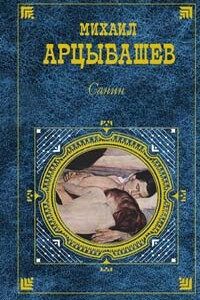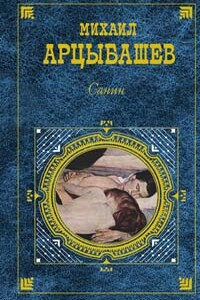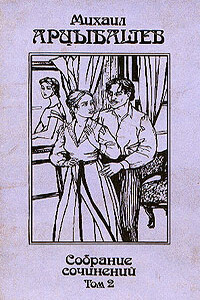Утром на другой день Ланде пошел в острог. За городом, на нежно-зеленом лугу, по широкому откосу реки резко белели белые стены и чернели одинокие солдаты, пронзая голубой воздух блестящими на солнце штыками.
Ланде проводили к смотрителю, у которого была борода по пояс, белая, седая, такая, какую пишут всегда на плоских суздальских иконах. Он вежливо уставился на Ланде и вопросительно пошевелил тонкими, недоверчивыми губами.
— Моя фамилия — Ланде. Вы меня, наверное, знаете?.. Я бы очень хотел повидать того Ткачева, которого третьего дня оправдали в суде. Я узнал, что он еще у вас…
Иконописный смотритель тюрьмы шевельнул костлявыми пальцами.
— Это можно… Он у нас еще. Видеть его, конечно, можно! — повторил он, как будто стараясь уверить себя самого. — Я вас велю проводить… Или, может, сюда позвать?
— Лучше я сам к нему пойду, — он, может, еще и не захочет ко мне. Я с ним, собственно, почти что незнаком.
Смотритель в упор посмотрел на Ланде.
— Сидоров, проводи! — вдруг сердито насупив брови, сказал он и перестал смотреть на Ланде.
— Что ж, я буду распоряжаться им, знаете?.. — доверчиво говорил Ланде. — Я хочу, видите ли, предложить ему…
— А это уж вы там с ним поговорите! — еще сердитее буркнул смотритель и стал трогать бумаги на столе.
Ланде стало стыдно за смотрителя, за его грубость и холодность, и он заторопился.
Старый, бритый и щетинистый солдат, в черном мешковатом мундире, разорванном под мышками, шевельнул в сторону Ланде обшлагом с потертыми нашивками и сказал:
— Слушаю, ваше благородие!.. Пожалуйте, господин!
Ланде пошел за ним на двор.
Двор был чистый и большой, но на нем не росла трава и было душно и жарко, несмотря на мягкое весеннее небо, сверкавшее вверху. Пахло кислыми щами, швальней и приторным, противно-нудным запахом отхожего места.
— Нехорошо у вас тут… — сказал Ланде.
Сидоров оглянул двор маленькими мужицкими глазками, как будто с веселым недоумением отыскивая, что же тут было нехорошего.
— Так точно! — сказал он все-таки, так быстро и охотно, как будто ему доставило большое удовольствие согласиться с Ланде.
Ланде посмотрел, как тяжело и крепко шагал он корявыми мужицкими ногами и прибавил:
— Скверная у вас тут служба: людей стеречь!
— Так точно! — так же охотно ответил Сидоров.
— Лучше бы землю в деревне пахать! — продолжал Ланде, жалея его.
— Что ж, — сказал Сидоров, — и землю пахать хорошо.
От его охотного и веселого голоса и Ланде стало весело.
— Отчего Ткачева до сих пор не выпускают? Ведь его уже оправдали?
— Не идет ен сам! — улыбаясь, ответил Сидоров.
— Почему? — удивился Ланде.
— «Некуда мне, говорит, идти…» История! Чудак человек!
Ланде задумался, и скорбная тень легла ему на лицо и на душу.
Они уже прошли двор и пошли по узкому сводчатому коридору; тут было странно темно после яркого солнечного света на дворе; везде был холодный, грязно-белый камень и зеленое старое железо.
Из двери в дверь безучастно и лениво ходили грязно и безобразно одетые люди, молодые и старые, но все с одинаково бескровными, нездоровыми, опухшими лицами. Недружелюбно наглыми глазами они провожали Ланде, останавливаясь у стен, а потом безучастно, как тени, уходили куда-то в глубь сырых коридоров, и было что-то опасное, страшное в этих бессмысленных, равнодушных движениях. В одной камере кто-то старался петь, и было видно, что он нарочно тратит на это больше сил, чем надо, и самое пение походило больше на проклятие, — такой дикий был мотив и столько в нем скверных слов.
— Ткачев! — споро крикнул Сидоров вдоль по коридору.
— Эй, Ткачев!.. Эй… ты!.. Тебя!.. Чуешь! — нестройно закричали несколько голосов, точно обрадовавшись предлогу прокричать не зря, а для какой-то надобности.
На пороге одной камеры показался человек в большой, не по росту, арестантской куртке, худой, черный. Смуглое, скуластое лицо его смотрело на Ланде сумрачно и недоверчиво.
— Я к вам… — доверчиво улыбаясь и точно стараясь этой улыбкой стать ближе и понятней Ткачеву, сказал Ланде и протянул руку.
Ткачев неловко, как будто и не удивившись его приходу, подал свою.
— Я с вами хотел поговорить… — прибавил Ланде. Ткачев еще недоверчивее посмотрел на него, прикусил тонкую, сухую губу, потом нехотя отступил в сторону и назад шага два и сказал надтреснутым, глуховатым голосом:
— Я тут живу… вот…
Ланде вошел за ним в одиночную камеру. Это была сводчатая комната, такая низкая, сырая и затхлая, что странно было думать, что в ней живет большой человек, а не какое-нибудь маленькое, трусливое животное.
Ткачев подумал, нахмурился и подставил Ланде табуретку.
— Садитесь, пожалуйста… — сказал он с неопределенным выражением.
Ланде сел и мягко смотрел на Ткачева.