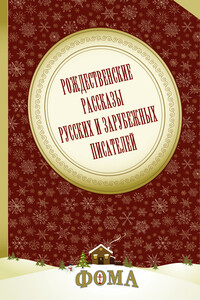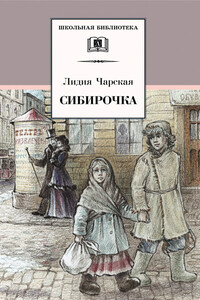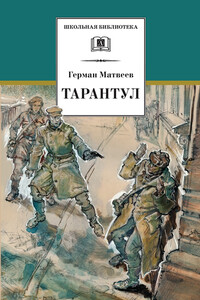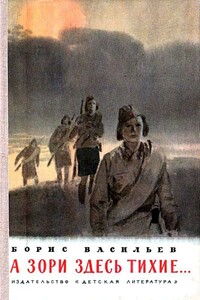Этот дом казался теперь настоящим сказочным замком. Мириады огней сверкали и переливались в его бесчисленных окнах. В накуренных благовонными травами залах все сверкало и переливалось в искрометных лучах – и золото, и серебро, и бронза. Усиленные оркестры музыки помещались на хорах. Гирлянды цветов обвивали потолок и стены комнат, превращая их в сплошной цветник.
Ровно к 10 часам вечера стали съезжаться приглашенные, весь цвет местной аристократии, с женами и дочерьми.
Разодетые молоденькие пани птичками выпархивали из экипажей и в сопровождении своих мужей, отцов и братьев входили в большую залу, убранную с небывалой роскошью.
Все лучшие красавицы Вильно и его окрестностей находились здесь.
И панна Тизенгаузен, впоследствии графиня Шуазель-Гуфье, очаровательная девушка, оставившая потомству записки о войне 1812 года, и красавица Радзивилл, сестра знаменитого князя Радзивилла, собравшего при вступлении Наполеона целый полк из польской аристократической молодежи, и графиня Коссаковская, и красавицы золовки ее, обе сестры Потоцкие, и много-много других. Словом, целый великолепный букет, составленный из первых виленских красавиц.
Император прибыл к 11 часам и вошел в бальную залу в сопровождении свиты блестящих флигель-адъютантов и целого сонма первых польских магнатов.
Грянул польский оркестр. Александр, взяв за руку хозяйку дома и почтительно склонившись в ее сторону, с истинно царским достоинством, смешанным с неподражаемой простотою, повел свою даму, приковывая к себе общее внимание толпы.
– Ах, барон, какая прелесть ваш император! – неожиданно сорвалось с уст черноглазой молоденькой дамы, сидевшей неподалеку от двери и не принимавшей участия в танце.
– О да! – произнес ее кавалер, высокий, длинноногий генерал в уланском колете Литовского полка, и тотчас же, любезно улыбаясь своей собеседнице, добавил с сильным немецким акцентом в произношении: – Император – это сама красота, и притом он добр, как ангел.
– Ах, правда! – искренним, почти детским звуком сорвалось с уст молоденькой пани, и глаза ее восторженно приковались к лицу императора.
Она вся была скорее похожа на милого, оживленного и беспечного ребенка, нежели на взрослую женщину, так юно, свежо и наивно было ее белое личико, таким неподдельным чувством сияли черные глазки.
Длинный барон после минутного молчания обратился к ней снова:
– Но почему вы, пани, не желаете принять участия в общем веселье? Или вы не любите танцевать?
– О нет, напротив, – поспешила она ответить. – Но я так еще недавно в Вильно и знаю очень немногих среди здешнего общества… И потом, здесь все такие важные дамы, а я ведь только жена ротмистра, – добавила она.
– О, за этим дело не станет! – любезно произнес ее кавалер и, предупредительно вскочив со стула, бросился в ту сторону залы, где стоял цвет гвардейской польской и русской молодежи.
Красавица пани осталась одна.
На ее лице мелькнула тревога.
«Ах, зачем убежал этот длинный барон? – думала она с тоскою. – Это почти единственный, кого она знает здесь на балу! И куда запропастился ее милый Казя, которому пришло в голову тащить на этот бал ее, скромную маленькую провинциалочку!»
И она тревожно оглядывалась во все стороны, отыскивая среди блестящих мундиров синий колет мужа.
И разом тревога покинула прелестное личико, а глаза засветились радостным блеском навстречу высокому, уже не очень молодому, но красивому ротмистру.
– Ты одна, крошка? – изумленно произнес он, приблизившись и улыбаясь жене. – А я думал, что барон Штакельберг займет тебя и развлечет немного, пока я поговорю с кем мне следовало.
– Ах, милый Казимир, – чистосердечно вырвалось из уст молодой женщины, – мне так скучно здесь на балу! Я никого не знаю, и никто не знает меня… И этот этикет, и это степенное веселье! О, как все это не похоже на наши домашние вечера! Право, гораздо лучше было бы мне остаться в замке…
– Ну не ребенок ли ты, Зося? – произнес с нежным укором ротмистр. – Твоему мужу необходимо было попасть на этот бал, поговорить с начальством, отблагодарить его как следует за полученное назначение… Иметь эскадрон в славном Литовском полку – ведь это большая честь, Зося… И вообще, носить мундир этого полка не то что служить в гродненских уланах, моя малютка!.. Увы! Ты вряд ли поймешь это, дитя!
– О нет! Я понимаю! Я все понимаю, Казимир! Но от этого мне не лучше, право… Я так боюсь за тебя… – с невольной грустью произнесла молодая женщина, и глаза ее затуманились слезами. – Литовский полк стоит первым по соседству с неприятелем, и я боюсь, ах, я боюсь за тебя, мой друг!
– Не будь ребенком, Зося! – произнес с укором ротмистр. – Успокойся, дитя! Бог милостив, со мной не случится ничего дурного… Взгляни, однако, вон идет сюда барон Штакельберг с молодым генералом! Он ведет к тебе танцора, крошка! О-о! И какого танцора. Ты удостоилась большой чести, дитя!
Взглянув на приближающегося свитского генерала, еще очень молодого и красивого, юная пани так и вспыхнула румянцем удовольствия и удовлетворенного тщеславия.
Действительно, Зося Линдорская – так как это была она, маленькая паненка из старого замка Канутов, – удостоилась большой чести: ей предстояло танцевать с Ермоловым, одним из корпусных командиров, входившим тогда в большую славу любимцем императора Александра.