Смех - [4]
Отметим теперь ту точку, в которой сходятся наши три предварительные замечания. Комическое возникает, по-видимому, тогда, когда соединенные в группу люди направляют все свое внимание на одного, из своей среды, заглушая в себе чувствительность и давая волю одному только разуму. Каков же этот особый штрих, на который должно направиться их внимание? Какое применение найдет здесь ум? Ответить на эти вопросы — значит приблизиться к нашей задаче. Но здесь необходимо привести несколько примеров.
Человек, бегущий по улице, спотыкается и падает; прохожие смеются. Над ним, мне думается, не смеялись бы, если бы можно было предположить, что ему вдруг пришло в голову сесть на землю. Смеются над тем, что он сел нечаянно. Следовательно, не внезапная перемена его положения вызывает смех, а то, что есть в этой перемене непроизвольного, то есть неловкость. Может быть, на дороге лежал камень. Надо было бы изменить путь и обойти препятствие. Но из-за недостатка гибкости, по рассеянности или неповоротливости, благодаря инерции или приобретенной скорости мышцы продолжали совершать то же движение, когда обстоятельства требовали чего-то другого. Вот почему человек упал, и именно над этим смеются прохожие.
Или вот человек, занимающийся своими повседневными делами с математической точностью. Но какой-то злой шутник перепортил окружающие его предметы. Он окунает перо в чернильницу и вынимает оттуда грязь, думает, что садится на крепкий стул, и оказывается на полу — словом, все у него выходит шиворот-навыворот или он действует впустую, и все это благодаря инерции. Привычка на все наложила свой отпечаток. Надо бы приостановить движение или изменить его. Но не тут-то было — движение машинально продолжается по прямой линии. Жертва шутки в рабочем кабинете оказывается в положении, сходном с положением человека, который бежал и упал. Причина комизма здесь одна и та же. И в том и в другом случае смешным является машинальная косность там, где хотелось бы видеть предупредительную ловкость и живую гибкость человека. Между этими двумя случаями только та разница, что первый произошел сам по себе, второй же создан умышленно. Прохожий, в первом случае, просто следовал своим путем, шутник, во втором случае, подвергался испытанию.
Как бы то ни было, эффект в обоих случаях определяется внешним обстоятельством. Комическое, стало быть, случайно: оно остается, так сказать, на поверхности человека. А как же оно проникает внутрь? Для этого необходимо, чтобы машинальная косность не нуждалась для своего проявления в препятствии, поставленном перед ней случайными обстоятельствами или человеческой хитростью. Необходимо, чтобы она естественным образом находила внутри себя беспрестанно возобновляющиеся поводы проявлять себя вовне. Представим себе человека, который думает всегда о том, что он уже сделал, и никогда о том, что делает, — человека, напоминающего мелодию, отстающую от своего аккомпанемента. Представим себе человека, ум и чувства которого от рождения лишены гибкости, так что он продолжает видеть то, чего уже нет, слышать то, что уже не звучит, говорить то, что уже не к месту, — словом, применяться к положению, уже не существующему и воображаемому, когда надо было бы применяться к наличной действительности. Комическое тогда будет в самой личности: она сама предоставит ему все необходимое — содержание и форму, основание и повод. Удивительно ли, что рассеянный человек (а именно таков только что нами описанный персонаж) главным образом и вдохновлял художников-юмористов? Когда Ла Брюер набрел на этот тип, он понял, разобравшись в нем, что нашел общий рецепт для создания забавных сюжетов. Он этим злоупотреблял. Он дает длиннейшее и подробнейшее описание Меналка, повторяясь и смакуя его сверх всякой меры. Его притягивала легкость сюжета. Может быть, рассеянность и не является источником комического, но она несомненно связана с фактами и идеями, непосредственно вытекающими из этого источника. Это одно из обширных естественных русел смеха.
Но эффект рассеянности может, в свою очередь, усиливаться. Существует общий закон, первое применение которого мы только что нашли и который можно сформулировать так: когда известный комический эффект происходит от известной причины, то эффект нам кажется тем более смешным, чем естественнее кажется причина. Мы смеемся уже над рассеянностью как над простым фактом. Еще более смешной будет для нас рассеянность, если она возникает и усиливается на наших глазах, если ее происхождение нам известно и мы можем проследить весь ход ее развития. Например, предположим, что кто-то избрал своим обычным чтением любовные или рыцарские романы. Увлеченный, зачарованный их героями, он мало-помалу сосредоточивает на них свои помыслы и свою волю. Он бродит среди нас, словно лунатик. Все, что он ни делает, он делает рассеянно. Но все его проявления рассеянности связаны с известной нам и вполне определенной причиной. Это не есть свидетельство отсутствия; рассеянность здесь объясняется присутствием личности во вполне определенной, хотя и воображаемой среде. Несомненно, падение всегда есть падение; но одно дело упасть в колодец, потому что смотришь куда-нибудь в сторону, другое — свалиться туда, потому что загляделся на звезды. Ведь именно звезду созерцал Дон Кихот. Как глубок комизм романтической мечтательности и погони за химерой! Между тем если взять рассеянность как связующее звено, то можно видеть, что очень глубокий комизм связан с самым что ни на есть поверхностным комизмом. Да, эти увлеченные химерами люди, взбалмошные, безумные и так странно рассудительные, вызывают у нас смех, затрагивая в нас те же самые струны, приводя в движение тот же самый механизм, что и жертва шутки в рабочем кабинете, и прохожий, поскользнувшийся на улице. Все они похожи — и падающие прохожие, и наивные жертвы обмана, преследующие свой идеал и спотыкающиеся о действительность, чистые сердцем мечтатели, которым коварная жизнь расставляет ловушки. Все они — рассеянные люди, более заметные потому, что их рассеянность систематическая, вращающаяся неизменно вокруг одной и той же главной идеи, потому, что их злоключения тоже связаны между собой той неумолимой логикой, с помощью которой жизнь обуздывает мечтательность, потому, что их действия дополняют друг друга, и все это вызывает вокруг них бесконечно возрастающий смех.
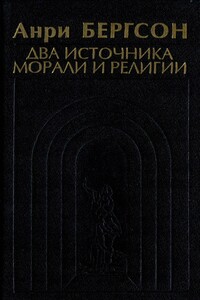
Бергсон А."Два источника морали и религии"«Два источника морали и религии» — это последняя книга выдающегося французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941). После «Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, которое впервые переводится на русский язык. В этой книге впервые разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Автор развивает поразительно глубокие, оригинальные и пророческие мысли о демократии, справедливости, об опасностях, которые подстерегают человечество, и о том выборе, который предстоит ему сделать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.