Случайные обстоятельства. Третье измерение - [123]
Срываясь, Елена Васильевна как бы невзначай говорила мужу — будто бы даже с уважением к его матери, отдавая должное такому ее умению, притворно восхищаясь, — что Надежда Викентьевна все-таки поразительно молодо выглядит для своих лет. Подумать только: шестьдесят с лишним, почти под семьдесят! — а на лице даже морщин нет. Молодец, честное слово!..
Андрей Михайлович бросал на жену короткий настороженный взгляд, потому что и в тоне ее, и в словах ему чудилось осуждение: что, дескать, как это можно так молодо выглядеть после всего?!
«Почему же «под семьдесят»? — возражал Каретников. — Ей шестьдесят три года...» Пожалуй, сам он был бы признателен матери, если б сейчас, после смерти отца, она не выглядела такой свежей и крепкой, а хотя бы внешне чуть постарела. Однако, стыдясь этих мыслей, он старался о другом думать — о том, сколько же, наверно, дополнительных сил должна требовать от человека зажатая им в себе боль. Если бы мать хоть немного отпустила себя, дала волю слезам — как он иногда, оставаясь один, — все бы легче ей было. Такое постоянное напряжение и вынести-то, кажется, невозможно... Но когда он делился с женой своими опасениями насчет матери, Елена Васильевна хоть и не разубеждала его, но, по его мнению, недостаточно участливо принимала эти опасения, больше отмалчивалась или переводила разговор на Ирину, на то, как та вся извелась об отце, даже смотреть больно. Соглашаясь с этим, Каретников в душе все же обижался за мать, начинал относиться к ней гораздо терпимее и думал, что, видно, и хорошая невестка не настолько близкий человек, чтобы до конца, по-настоящему понимать и сочувствовать.
Отсюда уже и совсем рядом было до более общей и грустной мысли, что могут ли вообще даже самые близкие тебе люди достаточно проникнуться твоими бедами. Вот и сейчас, например, когда он все определеннее чувствовал приближение болей под ложечкой, у него появлялось ощущение, что все они, его домашние, жили одной жизнью с ним как раз только до этого времени, пока у него ничего не болело.
Хотя и мать и жена с горячим, многословным участием наперебой говорили, как это ужасно — да-да, просто ужасно, что у него обострилась язва! — ему обязательно, немедленно надо показаться какому-нибудь профессору, они тут же, бурно отсочувствовав и как бы отдав необходимую дань его болезни, могли сразу перейти совсем на другое, захваченные новым разговором ничуть не меньше, чем только что, секунду назад, когда обсуждали его болезнь. И теперь он раздражался не только из-за предстоящих ему болей, приближение которых чувствовал с каждым днем все отчетливее, но и потому, что внимание и участливость, которые проявляли жена и мать, казались ему чем-то почти формальным, не надолго и не глубоко задевающей их неприятностью, раз на таких же точно правах и такими же, выходит, для них значимыми оставались в этот момент — рядом с заботой о нем — и заботы о новых туфлях для Лены, и разговоры об алкоголике-водопроводчике, которому не надо было конечно же платить вперед, пока он не закончит работу — теперь бегай ищи его! — и еще десятки таких же вздорных забот и разговоров, среди которых была вот, между всех прочих, и неприятность с его болезнью. Ну хотя бы уж сейчас, в эти ближайшие минуты, должно же было все остальное не так волновать их?!
Всего этого Каретников вслух не высказывал, потому что тогда пришлось бы сорваться, накричать, они бы все равно ничего не поняли, он уже это по опыту знал, а то, что он увидел бы на их лицах, могло быть недоумением, обидой, терпением — всем, чем угодно, только не пониманием, что его вспышка вызвана не обострившейся болезнью, а их отношением к нему.
Сам Андрей Михайлович вел себя со своей болезнью, почти как каждый врач, как-то противоречиво: хорошо представляя весь ее механизм и с достаточной мнительностью прислушиваясь ко всем ощущениям, связанным с этой болезнью, он вместе с тем был поразительно непоследователен и беспечен, если дело касалось какого-нибудь серьезного и длительного лечения. Правда, порой он обращался за советами к своему приятелю, которого считал толковым, знающим терапевтом — тут к тому же и обычное для всех доверчивое представление срабатывало: все-таки профессор, не кто-нибудь! — давал ощупывать живот, подробно отвечал на вполне заурядные в таких случаях вопросы, которые, впрочем, казались ему в эти минуты и глубокими, и очень важными для дальнейшего лечения, внимательно слушал, как и что ему принимать, заинтересованно переспрашивал, уточнял, если ему что-то было неясно, но тут же и легкомысленно нарушал все предписания, полагая в душе (к больным, которых он сам лечил, это не относилось, только к себе самому), что если уж должно какое-то время болеть — оно и будет болеть, как ты там ни хитри с профилактикой, как ни лечись. Просто переждать надо, перетерпеть это время.
Кроме того, по себе зная, как он, не рядовой в своем деле специалист, нередко вынужден полагаться в лечении больных скорее на догадку, на что-то приблизительное, неточное, малоизвестное, а то и вовсе на случай, не мог он совсем уж забыть, что и тот, кто смотрел его и выписывал рецепты, тоже ведь не бог, тоже идет во многом ощупью, и уверенные интонации приятеля-терапевта — это, может быть, далеко не от врачебной его уверенности...
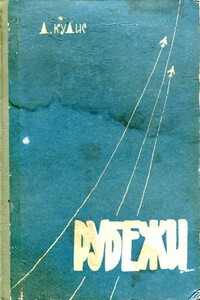
В 1958 году Горьковское издательство выпустило повесть Д. Кудиса «Дорога в небо». Дополненная новой частью «За полярным кругом», в которой рассказывается о судьбе героев в мирные послевоенные годы, повесть предлагается читателям в значительно переработанном виде под иным названием — «Рубежи». Это повесть о людях, связавших свою жизнь и судьбу с авиацией, защищавших в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях свободу родного неба; о жизни, боевой учебе, любви и дружбе летчиков. Читатель познакомится с образами смелых, мужественных людей трудной профессии, узнает об их жизни в боевой и мирной обстановке, почувствует своеобразную романтику летной профессии.
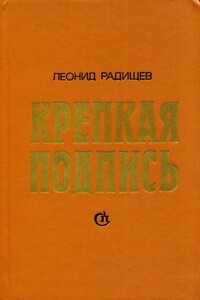
Рассказы Леонида Радищева (1904—1973) о В. И. Ленине вошли в советскую Лениниану, получили широкое читательское признание. В книгу вошли также рассказы писателя о людях революционной эпохи, о замечательных деятелях культуры и литературы (М. Горький, Л. Красин, А. Толстой, К. Чуковский и др.).

В романе «Белая птица» автор обращается ко времени первых предвоенных пятилеток. Именно тогда, в тридцатые годы, складывался и закалялся характер советского человека, рожденного новым общественным строем, создавались нормы новой, социалистической морали. В центре романа две семьи, связанные немирной дружбой, — инженера авиации Георгия Карачаева и рабочего Федора Шумакова, драматическая любовь Георгия и его жены Анны, возмужание детей — Сережи Карачаева и Маши Шумаковой. Исследуя характеры своих героев, автор воссоздает обстановку тех незабываемых лет, борьбу за новое поколение тружеников и солдат, которые не отделяли своих судеб от судеб человечества, судьбы революции.

Роман Владимира Комиссарова «Старые долги» — своеобразное явление нашей прозы. Серьезные морально-этические проблемы — столкновение людей творческих, настоящих ученых, с обывателями от науки — рассматриваются в нем в юмористическом духе. Это веселая книга, но в то же время и серьезная, ибо в юмористической манере писатель ведет разговор на самые различные темы, связанные с нравственными принципами нашего общества. Действие романа происходит не только в среде ученых. Писатель — все в том же юмористическом тоне — показывает жизнь маленького городка, на окраине которого вырос современный научный центр.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор публикуемых ниже воспоминаний в течение пяти лет (1924—1928) работал в детской колонии имени М. Горького в качестве помощника А. С. Макаренко — сначала по сельскому хозяйству, а затем по всей производственной части. Тесно был связан автор записок с А. С. Макаренко и в последующие годы. В «Педагогической поэме» Н. Э. Фере изображен под именем агронома Эдуарда Николаевича Шере. В своих воспоминаниях автор приводит подлинные фамилии колонистов и работников колонии имени М. Горького, указывая в скобках имена, под которыми они известны читателям «Педагогической поэмы».