Слова и вещи. Археология гуманитарных наук - [12]
Что гарантирует нам полную надежность устанавливаемой нами продуманной классификации, когда мы говорим, что кошка и собака меньше похожи друг на друга, чем две борзые, даже если обе они приручены или набальзамированы, даже если они обе носятся как безумные и даже если они только что разбили кувшин? На каком «столе», согласно какому пространству тождеств, черт сходства, аналогий привыкли мы распределять столько различных и сходных вещей? В чем состоит эта логичность, которая явно не определяется априорным и необходимым сцеплением и не обусловливается непосредственно чувственными содержаниями? Ведь дело здесь идет не о связи следствий, но о сближении и выделении, об анализе, сопоставимости и совместимости конкретных содержаний; нет ничего более зыбкого, более эмпирического (во всяком случае, по видимости), чем попытки установить порядок среди вещей; ничто не требует более внимательных глаз, более надежного и лучше развитого языка; ничто не призывает нас более настойчиво опираться на многообразие качеств и форм. А ведь даже неискушенный взгляд вполне смог бы соединить несколько похожих фигур и отличить от них какие-то другие в силу тех или иных особенностей — фактически даже при самой наивной практике любое подобие, любое различие вытекает из вполне определенной операции и применения предварительно установленного критерия. Для установления самого простого порядка необходима «система элементов», то есть определение сегментов, внутри которых смогут возникать сходства и различия, типы изменений, претерпеваемых этими сегментами, наконец, порог, выше которого будет иметь место различие, а ниже — подобие. Порядок — это то, что задается в вещах как их внутренний закон, как скрытая сеть, согласно которой они соотносятся друг с другом, и одновременно то, что существует, лишь проходя сквозь призму взгляда, внимания, языка; в своей глубине порядок обнаруживается лишь в пустых клетках этой решетки, ожидая в тишине момента, когда он будет сформулирован.
Основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, сразу же определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться. На противоположном конце мышления научные теории или философские интерпретации объясняют общие причины возникновения любого порядка, всеобщий закон, которому он подчиняется, принципы, выражающие его, а также основания, согласно которым установился именно данный порядок, а не какой-нибудь другой. Но между этими столь удаленными друг от друга областями находится такая сфера, которая выполняет функцию посредника, не являясь при этом менее основополагающей: она менее четко очерчена, более непостижима и, пожалуй, менее доступна анализу. В этой сфере любая культура, незаметно отрываясь от предписываемых ей ее первичными кодами эмпирических порядков, впервые занимая по отношению к ним определенную дистанцию, заставляет их терять свою изначальную прозрачность, перестает пассивно подчиняться их проникновению, освобождается от их непосредственного и незримого влияния, освобождается в достаточной мере, чтобы отметить, что эти порядки, возможно, не являются ни единственно возможными, ни наилучшими. Таким образом, оказывается, что она сталкивается с тем элементарным фактом, что под ее спонтанно сложившимися порядками находятся вещи, сами по себе доступные упорядочиванию и принадлежащие к определенному, но невыраженному порядку, короче говоря, что имеются элементы порядка. Дело обстоит так, как если бы, освобождаясь частично от своих лингвистических, перцептивных, практических решеток, культура применяла бы к ним иную решетку, которая нейтрализует первые и которая, накладываясь на них, делала бы их очевидными и одновременно излишними, вследствие чего культура оказывалась бы перед лицом грубого бытия порядка. Коды языка, восприятия, практики критикуются и частично становятся недействительными во имя этого порядка. Именно на его основе, принимаемой за положительную опору, и будут выстраиваться общие теории об упорядоченности вещей и вытекающие из нее толкования. Итак, между уже кодифицированным взглядом на вещи и рефлексивным познанием имеется промежуточная область, раскрывающая порядок в самой его сути: именно здесь он обнаруживается, в зависимости от культур и эпох, как непрерывный и постепенный или как раздробленный и дискретный, связанный с пространством или же в каждое мгновение образуемый напором времени, подобный таблице переменных или определяемый посредством изолированных гомогенных систем, составленный из сходств, нарастающих постепенно или же распространяющихся по способу зеркального отражения, организованный вокруг возрастающих различий и т. д. Вот почему эта «промежуточная» область, в той мере, в какой она раскрывает способы бытия порядка, может рассматриваться как наиболее основополагающая, то есть как предшествующая словам, восприятиям и жестам, предназначенным в этом случае для ее выражения с большей или меньшей точностью или успехом (поэтому эта практика порядка в своей первичной и нерасчленяемой сути всегда играет критическую роль); как более прочная, более архаичная, менее сомнительная и всегда более «истинная», чем теории, пытающиеся дать им ясную форму, всестороннее применение или философскую мотивировку. Итак, в каждой культуре между использованием того, что можно было бы назвать упорядочивающими кодами, и размышлениями о порядке располагается чистая практика порядка и его способов бытия.

Более 250 лет назад на Гревской площади в Париже был четвертован Робер-Франсуа Дамьен, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV. С описания его чудовищной казни начинается «Надзирать и наказывать» – одна из самых революционных книг по современной теории общества. Кровавый спектакль казни позволяет Фуко продемонстрировать различия между индивидуальным насилием и насилием государства и показать, как с течением времени главным объектом государственного контроля становится не тело, а душа преступника. Эволюция способов надзора и наказания постепенно превращает грубое государственное насилие в сложнейший механизм тотальной биовласти, окутывающий современного человека в его повседневной жизни и формирующий общество тотального контроля.

Об автореФранцузский философ Мишель Фуко (1926–1984) и через 10 лет после смерти остается одним из наиболее читаемых, изучаемых и обсуждаемых на Западе. Став в 70-е годы одной из наиболее влиятельных фигур в среде французских интеллектуалов и идейным вдохновителем целого поколения философов и исследователей в самых различных областях, Фуко и сегодня является тем, кто «учит мыслить».Чем обусловлено это исключительное положение Фуко и особый интерес к нему? Прежде всего самим способом своего философствования: принципиально недогматическим, никогда не дающим ответов, часто – провоцирующим, всегда так заостряющий или переформулирующий проблему, что открывается возможность нового взгляда на нее, нового поворота мысли.

Сборник работ выдающегося современного французского философа Мишеля Фуко (1926 — 1984), одного из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий.В сборник вошел первый том и Введение ко второму тому незавершенной многотомной Истории сексуальности, а также другие программные работы Фуко разных лет, начиная со вступительной речи в Коллеж де Франс и кончая беседой, состоявшейся за несколько месяцев до смерти философа.

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» (Алкивиад I) Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает античную «культуру себя» I—11 вв. н. как философскую аскезу, или ансамбль практик, сложившихся пол знаком древнего императива «заботы о себе». Дальний прицел такой установки полная «генеалогия» новоевропейского субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической онтологии нас самих». Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, санкционированным той или иной культурой, чем учреждается техниками господина (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем вопрос нашего нынешнего положения — это не проблема освобождения, но практика свободы..

"История сексуальности" Мишеля Фуко (1926—1984), крупнейшего французского философа, культуролога и историка науки, — цикл исследований, посвященных генеалогии этики и анализу различного рода "техник себя" в древности, в Средние века и в Новое время, а также вопросу об основах христианской точки зраения на проблемы личности, пола и сексуальности. В "Заботе о себе" (1984) — третьем томе цикла — автор описывает эволюцию сексуальной морали и модификации разнообразных практик, с помощью которых инцивидуум конституирует себя как такового (медицинские режимы, супружеские узы, гетеро- и гомосексуальные отношения и т.д.), рассматривая сочинения греческих и римских авторов (философов, риторов, медиков, литераторов, снотолкователей и проч.) первых веков нашей эры, в т.

Книга — публикация лекций Мишеля Фуко — знакомит читателя с интересными размышлениями ученого о природе власти в обществе. Фуко рассматривает соотношение власти и войны, анализируя формирование в Англии и Франции XVII–XVIII вв. особого типа историко-политического дискурса, согласно которому рождению государства предшествует реальная (а не идеальная, как у Гоббса) война. Автор резко противопоставляет историко-политический и философско-юридический дискурсы. Уже в аннотируемой книге он выражает сомнение в том, что характерное для войны бинарное отношение может служить матрицей власти, так как власть имеет многообразный характер, пронизывая вес отношения в обществе.http://fb2.traumlibrary.net.
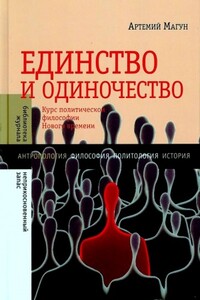
Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
