Слепота и прозрение - [3]
Очевидно, эта стремительная экспансия литературоведения за пределы собственной территории, в область социальных наук, должна была случиться много ранее. То, что сегодня во Франции называют «структурализмом», на поверку есть не что иное, как попытка сформулировать общую методологию наук о человеке. Естественно, что литература и литературная критика играют определенную роль в этом движении. Ничего особенно нового или кризисного в этом нет. Подобные попытки увязать литературоведение с социальными науками являются общим местом в мышлении XIX века, от Гегеля до Тэна и Дильтея. Объективными признаками, действительно указывающими на кризис, являются поспешность и нетерпимая конкуренция, с которой различные дисциплины соперничают за лидерство.
Какой интерес эти галльские перипетии могут представлять для американской литературы? Ирония положения, в котором оказался Малларме во время чтения оксфордской лекции, заключалась в том, что английская аудитория плохо улавливала причину беспокойства поэта. Английской просодии вовсе не требовалось прибытия сомнительной репутации иностранцев, чтобы начать эксперименты со стихосложением; свободный и белый стих не были новостью в стране Шекспира и Мильтона, и английская литературная публика в александрийском стихе склонна была видеть скорее пьедестал для колонны спенсерианских строф, нежели жизненный путь. Вероятно, они с трудом воспринимали риторику кризиса, используемую Малларме с легкой иронией, которой не упустили бы в Париже, но которая определенно ставила в тупик его зарубежную аудиторию. Подобным образом, говоря сегодня в Соединенных Штатах о кризисе критики, мы точно так же рискуем не быть услышанными. Поскольку американская критика более эклектична, менее беспокойна, нежели ее европейская идеологическая противница, она более открыта внешним импульсам, но менее склонна воспринимать их в тональности кризиса. Нам трудно всерьез принять ту полемическую жестокость, с которой в Париже обсуждаются методологические разногласия. Можно сослаться на авторитет лучших историков, чтобы показать, что нечто, воспринимавшееся в прошлом как кризис, часто оборачивалось всего лишь рябью, что перемены, в которых поначалу видели всеобщий переворот, с течением времени попадали в плавное русло менее стремительных потоков.
Такой прагматичный здравый смысл заслуживает уважения до тех пор, пока он не соблазняет ум самоудовлетворенным благодушием и не повергает его в беспробудный сон. Всегда можно показать на всех уровнях восприятия, что переживаемое другими людьми как кризис на самом деле не несет в себе никаких перемен; все зависит от точки зрения наблюдателя. Исторические «перемены» совсем не похожи на изменения природные, а словарь изменений и движений, поскольку он применяется к историческому процессу, — это только метафора, не лишенная смысла, но не имеющая объективного коррелята, на который можно однозначно указать в эмпирической реальности, как если бы речь шла о перемене погоды или изменении в организме. Никакие аргументы, никакое перечисление симптомов никогда не докажут, что возбуждение, охватившее сегодня литературную критику, действительно является кризисом, который, к добру или к худу, реформирует критическое сознание поколения. Событие остается релевантным, если кто-то переживает его как кризис и если он постоянно говорит о действительности на языке кризиса. Мы должны это учитывать, принимая затруднения других тогда, когда хотим обратиться к себе самим.
И вновь текст оксфордской лекции Малларме, тесно связанный с другим его прозаическим текстом, написанным на ту же тему чуть позднее и названным «Кризис стиха», может послужить нам точным намеком. В двух этих текстах Малларме ведет речь об экспериментах в просодии, предпринятых группой молодых поэтов, которые сами себя называли (часто без ободрения со стороны Малларме) его учениками, и перечисляет их имена: Анри де Ренье, Жан Мореа, Вьеле-Гриффен, Гюстав Кан, Шарль Морис, Эмиль Верхарн, Дюжарден, Альбер Моккель и т. д. Он полагает, что их целенаправленный отказ от традиционного стихосложения в пользу свободного стиха, формирующий то, что он называет «полиморфностью», есть проявление великого кризиса, что-то вроде апокалиптического вихря, который вновь и вновь становится центральным символом в его собственных поздних стихотворениях. Для любого историка французской литературы ясно, что Малларме преувеличивает значимость переживаемых событий, выставляя их в совершенно неверном свете, не только в глазах более флегматичной британской аудитории, но и в глазах будущих историков. Об упоминаемых им поэтах сегодня мало кто помнит, и уж во всяком случае никто не восхваляет их за вихре- подобное обновление, которое так высоко оценивал Малларме. Более того, справедливо было бы заметить, что Малларме не только преувеличивал значимость молодых поэтов, но, по-видимому, был слеп к тем силам своего времени, которые действительно оставили свой отпечаток: он лишь походя упоминает о Лафорге, который был как- то связан с Ренье, и ни слова не говорит о Рембо. Короче говоря, создается впечатление, что Малларме недопустимо переоценивает круг своих собственных друзей, а употребляемый им термин «кризис» подсказан скорее пропагандистскими целями, нежели прозрением.
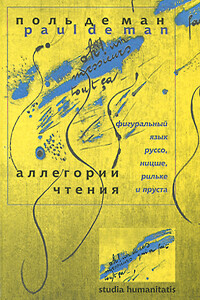
Издание является первым русским переводом важнейшего произведения известного американского литературного критика Поля де Мана (1919-1983), в котором основания его риторики изложены в связи с истолкованиями литературных и философских работ Руссо, Ницше, Пруста и Рильке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известный историк науки из университета Индианы Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий обзор научной мысли с середины XV до середины XVII века. Этот период – особенная стадия в истории науки, время кардинальных и удивительно последовательных перемен. Речь в книге пойдет об астрономической революции Коперника, анатомических работах Везалия и его современников, о развитии химической медицины и деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось в изучение Гарвеем кровеносной системы человека, в разнообразные исследования Кеплера, блестящие открытия Галилея и многие другие идеи эпохи Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими и интеллектуальными достижениями и отметившими начало новой эры научной мысли, что отражено и в академическом справочном аппарате издания.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Книга посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 годы, когда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, в попытке превратить фотографию в орудие политической пропаганды. Однако в это же время (1925–1935) русская фотография переживала свой «золотой век» и была одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии. Книга адресована широкому кругу специалистов и любителей фотографии, культурологам и историкам культуры.
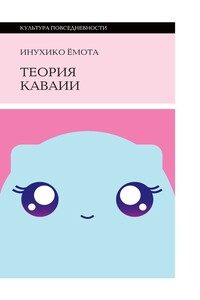
Современная японская культура обогатила языки мира понятиями «каваии» и «кавайный» («милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», «маленький»). Как убедятся читатели этой книги, Япония просто помешана на всем милом, маленьком, трогательном, беззащитном. Инухико Ёмота рассматривает феномен каваии и эволюцию этого слова начиная со средневековых текстов и заканчивая современными практиками: фанатичное увлечение мангой и анимэ, косплей и коллекционирование сувениров, поклонение идол-группам и «мимимизация» повседневного общения находят здесь теоретическое обоснование.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .