Следующая история - [8]
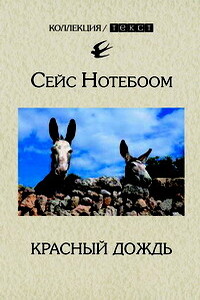
Сейс Нотебоом, выдающийся нидерландский писатель, известен во всем мире не только своей блестящей прозой и стихами - он еще и страстный путешественник, написавший немало книг о своих поездках по миру. Перед вами - одна из них. Читатель вместе с автором побывает на острове Менорка и в Полинезии, посетит Северную Африку, объедет множество европейский стран. Он увидит мир острым зрением Нотебоома и восхитится красотой и многообразием этих мест. Виртуозный мастер слова и неутомимый искатель приключений, автор говорил о себе: «Моя мать еще жива, и это позволяет мне чувствовать себя молодым.

«Ритуалы» — пронзительный роман о трагическом одиночестве человека, лучшее произведение замечательного мастера, получившее известность во всем мире. В Нидерландах роман был удостоен премии Ф. Бордевейка, в США — премии «Пегас». Книги Нотебоома чем то напоминают произведения чешского писателя Милана Кундеры.Главный герой (Инни Винтроп) ведет довольно странный образ жизни. На заводе не работает и ни в какой конторе не числится. Чуть-чуть приторговывает картинами. И в свое удовольствие сочиняет гороскопы, которые публикует в каком-то журнале или газете.
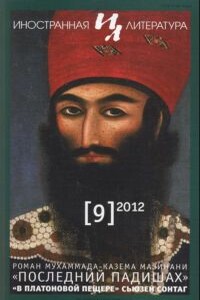
Рассказ нидерландского писателя Сейса Нотебоома (1933) «Гроза». Действительно, о грозе, и о случайно увиденной ссоре, и, пожалуй, о том, как случайно увиденное становится неожиданно значимым.
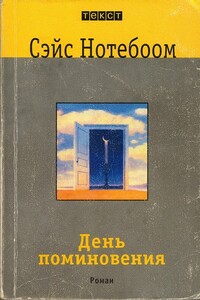
Действие романа происходит в 90-х годах XX века в Берлине — столице государства, пережившего за минувшее столетие столько потрясений. Их отголоски так же явственно слышатся в современной жизни берлинцев, как и отголоски душевных драм главных героев книги — Артура Даане и Элик Оранье, — в их страстных и непростых взаимоотношениях. Философия и вера, история и память, любовь и одиночество — предмет повествования одного из самых знаменитых современных нидерландских писателей Сэйса Нотебоома. На русском языке издается впервые.
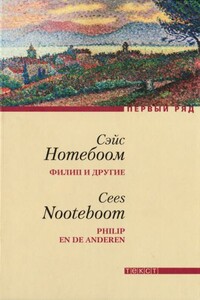
Роман знаменитого нидерландского поэта и прозаика Сейса Нотебоома (р. 1933) вполне может быть отнесен к жанру поэтической прозы. Наивный юноша Филип пускается в путешествие, которое происходит и наяву и в его воображении. Он многое узнает, со многими людьми знакомится, встречает любовь, но прежде всего — он познает себя. И как всегда у Нотебоома — в каждой фразе повествования сильнейшая чувственность и присущее только ему одному особое чувство стиля.За роман «Филип и другие» Сэйс Нотебоом был удостоен премии Фонда Анны Франк.
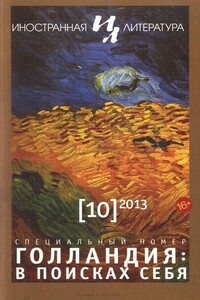
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВАА. Б. Иехошуа (родился в 1936 году в Иерусалиме) — известный израильский прозаик, драматург и эссеист. Уже первые его рассказы, печатавшиеся в пятидесятых годах, произвели сильное впечатление близкой к сюрреализму повествовательной манерой, сочетанием фантастики и натурализма. Их действие развивается вне четких временных и пространственных рамок, герои находятся как бы во власти могучих внешних сил.В последующих рассказах А. Б. Иехошуа, написанных в шестидесятые и особенно семидесятые годы, в пьесах и романе «Любовник» все ярче выявляются проблемы современного израильского общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.