След - [6]
Он улыбался, здоровенный, загорелый мужик, а Веры уже не было с нами. Наверное, ему хотелось облегчить душу. Живая сестра мешала бы признаться, а мертвая будто и помогала.
Детское воспоминание: по ночному поселку идут две тысячи человек с горящими бензиновыми лампочками. Страшная и завораживающая картина. Забастовка. Неизвестность. И желание выбежать из дома к тем грозно текущим огням.
Уехал Антон, и вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. На прощание он посоветовал пригрозить моей дочери Ирине лишением наследства, если она забудет отца. Это в нем мой тесть отозвался. Чем я могу распоряжаться? Побрякушками моей жены? Ее шубой? Или дачным домиком? Я временный владелец всех этих вещей. Они ничтожны.
Я познакомил Любу с Авророй Алексеевной. Люба — статная, сильная, большегрудая. И Аврора Алексеевна восхищенно смотрит на нее.
Когда Виташа услышал имя: «тетя Аврора», он засмеялся и спросил:
— А где дядя крейсер?
Он бесхитростно повторил Любино выражение.
Дети разрешали Авроре Алексеевне бывать у нас, но приняли ее на своих условиях, как самую младшую в нашей семейной иерархии. Однажды мы с ней собрались вечером в кино, и Любе пришлось изменить свои планы и остаться дома с Виташей.
— Не хочу с мамой, хочу с дедушкой! — закапризничал мальчик. — Мама со мной не играет!
— Дедушке сегодня не до нас, — объяснила Люба. — Он тоже хочет развлекаться. И не хнычь, а то отшлепаю.
Виташа в слезах ухватился за мою ногу. Я уговаривал его. Люба утащила мальчика в комнату и захлопнула дверь.
— Может, не пойдем? — предложила Аврора Алексеевна виноватым тоном.
— Давай завтра, — согласился я.
И мы остались с Виташей, а Люба ушла. Однако после этого она охладела к Авроре Алексеевне. Я должен был задуматься: к чему это нас приведет?
Люба заговорила о том, что скоро выйдет замуж и хочет, чтобы муж жил у нас.
Его звали Денис. Ему тридцать пять лет, лицо живое, хорошее. Не старался понравиться, но часто оглядывался на Любу. Я выпил с ним рюмку водки, вспомнил, что в годы войны был знаком с директором института, в котором он работает. Мне польстило, что этот парень знал меня как ученого. Правда, в его годы не следовало бы так критически оценивать работу всего института, как он делал.
Потом Люба спросила — и я ответил, что Денис мне понравился.
Он переехал к нам. С Виташей у него началась дружба. Денис играл с ним в коридоре в футбол большим резиновым мячом, сперва поддавался и пропускал много голов, ко когда счет становился 9:0, быстро отыгрывался, и оба кричали, толкались, смеялись, стараясь забить решающи и мяч. Несколько раз Денис выиграл, и Виташа плакал от обиды. Однажды разгоряченный мальчик укусил его за палец, и Денис, улыбаясь, похвалил его. За спортивную злость.
Иногда в воскресенье Денис уходил проведывать своего сына к первой жене. Тогда Люба нервничала, злилась на меня и Виташу. Но мы оставляли ее, уходили гулять за шоссе.
Вдоль шоссе шло поле сизовато-зеленого ячменя. Оно полого опускалось к небольшой балочке, заросшей шиповником и терном. По дну бежал ручей. Он выходил из глинистого бугорка и через сто, сто двадцать метров исчезал в расселине. Ручей был нашей тайной. Подземный водоносный пласт, обнажившийся на коротком расстоянии, приоткрыл нам невидимую сторону природы. Виташа назвал ручеек Бабушкиным. Потому что бабушка жила с нами и куда-то ушла. Умерла, Виташа! Нет, не умерла, а просто мы перестали ее видеть.
Я сказал, что в старину, когда еще жил мой дедушка, в ручьях и реках водились водяные, а в лесу лешие. Виташа шепотом показал мне у кустика молочая степную дыбку, крупного зеленого кузнечика, и стал подкрадываться, держа ладонь горстью. Но на буровато-сером плоском песчанике что-то мелькнуло, зеленоватая ящерица схватила дыбку и прокусила ей длинноусую голову. Мальчик застыл, потом быстро присел. Но ящерица ускользнула от него. Он раздвинул стебли молочая, оглядел склон.
Когда-то немало таких прытких ящериц побывало в моих руках, оставив узенькие хвосты. И ящерицы, и бабочки адмиралы, ленточницы, нежно-лимонные подалирии и десятки обыкновенных боярышниц, и жуки-бронзовки, и рогатые жуки-олени, и разные стрекозы, от большого голубого дозорщика-повелителя до маленькой лютки-дриады, — сколько их было мной поймано и с увлечением замучено.
Не найдя ящерицы, Виташа вспомнил, что у меня был дедушка, и удивился этому. Я удивился вслед ему. Неужели у меня был дед, который верил в леших, водяных и домовых, который родился крепостным, стал шахтером и потом механиком? Я изумился некоему чуду, таившемуся в явной близости давно ушедшей жизни. Дед всегда держал огород, и мой отец тоже держал, и я, куда бы меня ни заносило, и в Нарыме, и в Кузбассе, и на донецких шахтах, заводил грядки.
— В Бабушкином ручье тоже водяной? Какой он?
Но не я отвечал мальчику, а дед Григорий:
— Водяной — это лысый старик. Живот у него надутый, лицо пухлое. Он ходит в высокой сетяной шапке, с поясом из водорослей. С левой полы капает вода. В руке зеленый пруток. Ударит им по воде — вода расступается…
Я же говорил другое. Запомни меня, Виташа! Запомни все: и этот день, ящерицу, ручей, водяного… Я был! Я любил тебя.
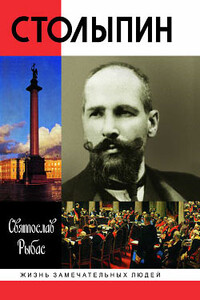
Документально-исторический роман о Великом Реформаторе Петре Столыпине (1862–1911), яркой личности, человеке трагической судьбы, вознесенном на вершину исполнительной власти Российской империи, принадлежит перу известного писателя и общественного деятеля С. Ю. Рыбаса. В свободном и документально обоснованном повествовании автор соотносит проблемы начала прошлого века (терроризм, деградация правящей элиты, партийная разноголосица и др.) с современными, обнажая дух времени. И спустя сто лет для россиян важно знать не только о гражданском и моральном подвиге этого поразительного человека, но и о его провидческом взгляде на исторический путь России, на установление в стране крепкого державного и конституционного начала.
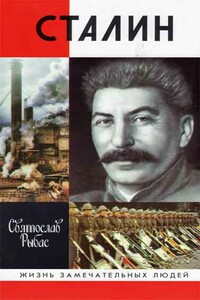
Сталина называют диктатором, что совершенно точно отражает природу его тотальной власти, но не объясняет масштаба личности и закономерностей его появления в российской истории. В данной биографии создателя СССР писатель-историк Святослав Рыбас освещает эти проблемы, исходя из утверждаемого им принципа органической взаимосвязи разных периодов отечественного исторического процесса. Показаны повседневная практика государственного управления, борьба за лидерство в советской верхушке, природа побед и поражений СССР, влияние международного соперничества на внутреннюю политику, личная жизнь Сталина.На фоне борьбы великих держав за мировые ресурсы и лидерство также даны историко-политические портреты Николая II, С.

Повесть "Зеркало для героя" - о шахтерах, с трудом которых автор знаком не понаслышке, - он работал на донецких шахтах. В повести использован оригинальный прием - перемещение героев во времени.

В книге Святослава Рыбаса представлено первое полное жизнеописание Андрея Громыко, которого справедливо называли «дипломатом № 1» XX века. Его биография включает важнейшие исторические события, главных действующих лиц современной истории, содержит ответы на многие вопросы прошлого и прогнозы будущего. Громыко входил в «Большую тройку» высшего советского руководства (Андропов, Устинов, Громыко), которая в годы «позднего Брежнева» определяла политику Советского Союза. Особое место в книге занимают анализ соперничества сверхдержав, их борьба за энергетические ресурсы и геополитические позиции, необъявленные войны, методы ведения дипломатического противостояния.

В повести «На колесах» рассказывается об авторемонтниках, герой ее молодой директор автоцентра Никифоров, чей образ дал автору возможность показать современного руководителя.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
