Сквозь зеркало языка - [12]
На первый взгляд, утверждение Гладстона о том, что чувство цвета у греков отличалось от нашего, кажется столь же неправдоподобным, как и его идеи о христоподобном Аполлоне или Марии-Латоне. Ибо как мог так измениться базовый аспект человеческого восприятия? Никто, конечно, не отрицает, что между миром Гомера и нашим утекло много воды: за тысячелетия, разделяющие нас, возвышались и рушились империи, приходили и уходили религии и идеологии, наука и технология преобразовали наши интеллектуальные горизонты и почти всю обыденную жизнь до неузнаваемости. Но если в этом громадном море перемен мы и можем найти хоть одну гавань стабильности, один аспект жизни, оставшийся точно таким же, как и во времена Гомера – и даже в незапамятные времена, – то это будет, конечно, способность наслаждаться богатыми красками природы: синевой моря и неба, пылающим багрянцем восхода, зеленью свежей листвы. Если можно словом представить скалу стабильности в потоке человеческого опыта, то, несомненно, это будет вопрос всех времен: «Папа, почему небо голубое?»
А будет ли? Признак незаурядного ума – его способность задавать вопросы о самоочевидном, и тщательное исследование Гладстоном «Илиады» и «Одиссеи» не оставило места для сомнения, что у Гомера в описании цветов была какая-то очень серьезная неправильность. Вероятно, самый подозрительный пример – то, как Гомер говорит о цвете моря. Возможно, самая знаменитая фраза из всей «Илиады» и «Одиссеи», которая в ходу до сих пор, – это бессмертный цветовой эпитет, «виноцветное море». Но давайте на минуточку рассмотрим это описание с дотошным буквализмом Гладстона. Как это часто бывает, «виноцветное» – уже деяние спасительной интерпретации при переводе[43], потому что на самом деле Гомер говорит omops, что буквально значит «выглядит, как вино» (omos – это «вино», а op – корень «видеть»). Но какое отношение цвет моря имеет к вину? В качестве ответа на простой вопрос Гладстона ученые, чтобы устранить затруднение, предложили все виды вообразимых и невообразимых теорий. Самым частым ответом было предположение, что Гомер, должно быть, имел в виду глубокий пурпурно-алый оттенок, какой бывает у волнующегося моря на рассвете или закате. Увы, но ничто не указывает, что Гомер использовал этот эпитет именно для рассветного или закатного моря. Также предполагалось, явно со всей серьезностью, что море иногда может покраснеть из-за водорослей определенных видов.[44] Другой ученый, отчаявшись изобразить море красным, попытался вместо этого сделать синим вино и заявил, что «синие и фиолетовые оттенки видны в некоторых винах южных регионов, и особенно в уксусе из домашних вин»[45].
Не стоит задерживаться на том, почему все эти теории не содержат ни вина, ни воды. Но был и иной метод для обхода затруднения, который был применен многими уважающими себя комментаторами и который заслуживает некоторого пояснения. Он состоял в апелляции к безотказной защите от любой буквалистской критики: поэтической вольности. Один видный специалист по классической филологии, например, подкалывал Гладстона заявлением, что «если кто-то скажет, что менестрелю не хватало органа цвета, потому что он обозначал море этим неопределенным словом, я в ответ скажу, что критику не хватает органа поэтичности»[46]. Но когда все уже сказано и спето, элегантное тщеславие порицаний критиков не выдерживает изощренного буквализма Гладстона, так как его уверенный анализ не исключил возможности, что поэтическая вольность может объяснять странности в Гомеровых описаниях цвета. Гладстон не был глух к поэзии и хорошо знал такой хитрый эффект, какой называл «усилением цветовых эпитетов». Но он также понимал, что если бы несообразности были только дерзким упражнением в поэтическом искусстве, то усиление было бы скорее исключением, чем правилом, иначе в результате получилась бы не вольность, а путаница. И он показал (используя методы, которые сейчас сочли бы образцом системного анализа текста, но они высмеивались одним из критиков – современников Гладстона как бухгалтерское мышление «прирожденного канцлера казначейства»[47]), что эта расплывчатость в гомеровском описании цветов была правилом, а не исключением. Чтобы доказать это, Гладстон предлагает набор свидетельств, состоящий из пяти главных пунктов:
I. Использование одного и того же слова для обозначения цветов, совершенно разных в нашем понимании.
II. Описание одного и того же объекта такими цветовыми эпитетами, которые абсолютно не сочетаются друг с другом.
III. Цвет описывается слишком мало или не описывается вовсе в тех случаях, где мы могли бы с уверенностью ожидать его появления.
IV. Обширное преобладание самых простых цветов, черного и белого, над всеми остальными.
V. Малый размер гомеровского цветового словаря.
Далее для обоснования этих пунктов он приводит больше тридцати страниц примеров, из которых я назову лишь несколько. Рассмотрим сначала, какие еще объекты Гомер описывает как имеющие сходство с вином. Кроме моря, единственным, что Гомер называет «виноцветным», оказываются… быки. И никакие филологические сальто критиков не смогут поспорить в убедительности с простым заключением Гладстона: «Существует немалая трудность в совмещении этих двух употреблений с идеей общего цвета. Море – синее, серое или зеленое. Быки – черные, гнедые или коричневые».

Сталин, потрясенный стихами Мандельштама и обсуждающий его талант с Пастернаком, брежневское политбюро, которое высылает Бродского из СССР из-за невозможности сосуществовать в одной стране с великим поэтом, – популярные сюжеты, доказывающие особый статус Поэта в русской истории и признание его государством поверх общих конвенций. Детальная реконструкция этих событий заставляет увидеть их причины, ход и смысл совершенно иначе.

В первые послевоенные годы на страницах многотиражных советскихизданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный наидеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальнойкультуре СССР 1930‐х). Решающим фактором в формировании такогообраза стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехваткав послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистическойкультуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностьюигнорировать официальная пропаганда.
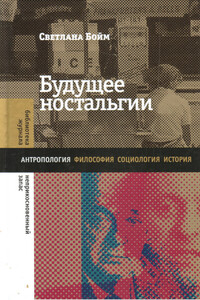
Может ли человек ностальгировать по дому, которого у него не было? В чем причина того, что веку глобализации сопутствует не менее глобальная эпидемия ностальгии? Какова судьба воспоминаний о Старом Мире в эпоху Нового Мирового порядка? Осознаем ли мы, о чем именно ностальгируем? В ходе изучения истории «ипохондрии сердца» в диапазоне от исцелимого недуга до неизлечимой формы бытия эпохи модерна Светлане Бойм удалось открыть новую прикладную область, новую типологию, идентификацию новой эстетики, а именно — ностальгические исследования: от «Парка Юрского периода» до Сада тоталитарной скульптуры в Москве, от любовных посланий на могиле Кафки до откровений имитатора Гитлера, от развалин Новой синагоги в Берлине до отреставрированной Сикстинской капеллы… Бойм утверждает, что ностальгия — это не только влечение к покинутому дому или оставленной родине, но и тоска по другим временам — периоду нашего детства или далекой исторической эпохе.

Новшества в культуре сопровождаются появлением слов, не только пополняющих собою социальный речевой обиход, но и постепенно меняющих представление общества о самом себе. Как соотносятся в общественном сознании ценности традиции с инокультурным и иноязычным «импортом»? Чем чревато любопытство и остроумие? Почему русский царь пропагандирует латынь, аристократы рассуждают о народности, а академик Б. А. Рыбаков ищет — и находит — в славянском язычестве крокодилов? — на эти и другие вопросы пытается ответить автор книги.
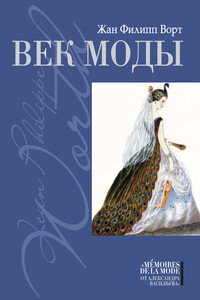
Эту книгу Жан Филипп Ворт посвятил своему отцу – Чарльзу Фредерику Ворту, первому всемирно известному дизайнеру, создателю моды Haute Couture, который одевал самых богатых и влиятельных женщин своего времени: представительниц королевских династий и жен американских миллионеров. Ч. Ф. Ворту принадлежит немало изобретений в сфере модного бизнеса. Его первым стали считать не обычным производителем одежды, а настоящим художником. Жан Филипп увлекательно рассказывает об этом золотом веке моды, о работе и успехах их Дома моды, основанном в 1857-м и просуществовавшем почти сто лет, до 1956 года.
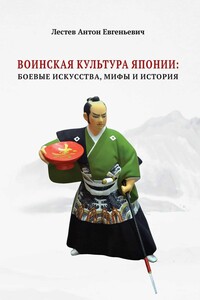
Монография посвящена изучению традиций и социокультурных практик боевых искусств в контексте становления и эволюции воинской культуры Японии.© Лестев А.Е., 2019.

Насколько велики на самом деле «большие данные» – огромные массивы информации, о которых так много говорят в последнее время? Вот наглядный пример: если выписать в линейку все цифры 0 и 1, из которых состоит один терабайт информации (вполне обычная емкость для современного жесткого диска), то цепочка цифр окажется в 50 раз длиннее, чем расстояние от Земли до Сатурна! И тем не менее, на «большие данные» вполне можно взглянуть в человеческом измерении. Эрец Эйден и Жан-Батист Мишель – лингвисты и компьютерные гении, создатели сервиса Google Ngram Viewer и термина «культуромика», показывают, каким образом анализ «больших данных» помогает исследовать трудные проблемы языка, культуры и истории.