Сквозь ночь - [229]
Его живопись необычайно звонка, цветиста, быть может — чуть излишне бравурна. Кажется, он торопится, спешит высказаться; но это, наверное, пройдет, уляжется. Излишек легкости опасен для самого большого таланта.
В картинной галерее Армении есть зал Айвазовского (к слову, родители его происходят из Ани, его настоящая фамилия — Айвазян). Среди хранящихся там холстов я увидел два необычных — без моря, волн, без так легко дававшихся эффектов. Эти две скромные картины — «Дарьяльское ущелье» и еще одна, безымянная, — поле, шалаш, стога — очень запомнились мне.
Мы проехали Маралик, где строится город при новом заводе — чистый, с асфальтом и фонарями дневного света. Слева в котловине какое-то село — каменные дома среди садов, длинные, как поезда, скирды соломы. Оливково зеленеет пшат. В Давиташене на кладбище стоит во весь рост краснокаменный мужчина под балдахином из оцинкованного железа. Это — любимый председатель колхоза, его именем названо село.
Наш третий попутчик — усатый, по-крестьянски темнолицый, в сапогах, синих армейских шароварах, с белеющей по краю фуражки верхней половиной лба — рассказывает о другом памятнике, где всегда найдешь стакан и початую бутылку: покойный любил коньяк, и теперь жена заботится…
Рассказав об этом, он кивнул в сторону Арагаца, где среди рыжих горных лесов блестели серебром купола Бюраканской обсерватории, а выше — за разросшейся облачной пеленой — спрятался знаменитый институт Алиханяна. «Очень вредные условия, — сказал он. — Поверите? Полгода поработает человек, потом одни девочки родятся…»
Инженеры расхохотались. Усатый пожал плечами. Помолчав, он стал сетовать, что заставляют хлопок сеять в Араратской долине. «Посудите сами, какой толк, — говорил он, загибая для наглядности пальцы со светлыми в черных каемках ногтями, — с одного гектара хлопка — четыре тысячи прибыли, а с винограда — сто!» Наверное, он по привычке считал в старых деньгах, но суть дела от этого не менялась. Инженеры согласно кивали; не знаю, насколько был прав усатый с точки зрения общегосударственных интересов. Возможно, следовало бы больше довериться уму-разуму колхозников Араратской долины.
Мы спустились в долину. Впереди — Аштарак, сладостный Аштарак, среди виноградников, среди абрикосовых и персиковых садов, среди яблонь, груш, миндаля и светло-желтых ореховых деревьев. «Скупой здесь народ, — вдруг произносит усатый. — Богатые, понимаешь, у каждого в подвале одного вина прошлогоднего полторы-две тысячи литров, а попроси что-нибудь…»
Я хотел было заметить, что скупость — родная сестра богатства, но тут усатый сказал, что в Эчмиадзине колхозники, еще богаче живут, чем в Аштараке, а вот ведь — душа нараспашку, рубаху с себя снимет…
Я проглотил неродившийся афоризм, размышляя о рискованности обобщений. Навстречу бежали осенние сады. Молодые тополя стояли шпалерами вдоль дороги. Бетонный оросительный канал пересекал долину, уходя в сторону Арарата. Его вершины, затянутые мглой, рисовались силуэтом, чем-то напоминая нагую грудь матери-земли.
1963
СУЗДАЛЬСКАЯ ЗИМА
Из Владимира на север дорога идет через суздальское ополье. Впереди и вокруг, до самого окоема, — чуть круглящиеся холмами заснеженные поля, редкие перелески-ельнички, березовые прозрачные рощицы. Белизна, сероватое небо, желтое солнце неярко светит сквозь морозную марь.
Справа — село Суходол. В сухой дол сбегают (или, если хотите, взбираются по склону) бревенчатые избы, над ними — одноглавая церковь: покрытый на четыре ската беленый куб, грушевидная главка — по виду судя, XVIII век.
Может быть, оттого, что чернеющие избы вот уже третье столетие толпятся у подножья церкви на склоне, выставив припорошенные снегом хребтины тесовых крыш, они кажутся стоящими на коленях, лбом к земле. Между избами не видно ни деревца; кое-где из снега торчат колья плетней или зубья палисадничков.
Печать древнего переселенчества издавна лежит на голизне и неуюте старой русской деревни.
Когда под ударами половцев и татар пустела Киевская Русь, когда ее люди поднимались с обжитых мест и уходили от разорительных набегов и кровавых усобиц вверх по Днепру и дальше на север, перед ними открывалась перспектива долгого и нелегкого кочевья.
Из «Страны городов» они попадали в лесные дремучие дебри; врубались, корчевали, сводили лес огнем, чтобы оголить, приспособить поляну, хоть малое поле для жилья и посева. Редкими островками в гуще деревьев возникали деревни и деревеньки на берегах лесных рек, озер и ручьев — и пустели, когда тощала отвоеванная полоска или сгорала в пожаре изба.
Ничто тут не рассчитывалось надолго, все было в движении. Двигались прочь от болот, из сырой лесной гущи в сторону, более открытую и добрую для землепашца. Двигались вслед за монахами-странниками, поближе к возникавшим монастырям, к северорусским торговым городам. Двигались в надежде на лучшее, издавна рисовавшееся русскому мужику сказочной «страной Муравией» где-то за окоемом.
Но в долгом, вековом передвижении надежды слабли, туманились, уходили в, сказку; а в были оставался навык временности, нажитая дедами-прадедами привычка к неоседлому неуюту, кочевое небрежение к благоустройству жизни. Крепостная неволя лишь усилила внушенное веками свойство.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.
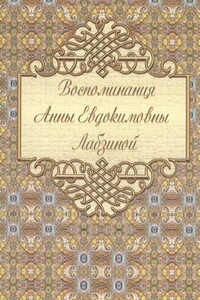
Анна Евдокимовна Лабзина - дочь надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева, во втором браке замужем за А.Ф.Лабзиным. основателем масонской ложи и вице-президентом Академии художеств. В своих воспоминаниях она откровенно и бесхитростно описывает картину деревенского быта небогатой средней дворянской семьи, обрисовывает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь преимущественно на изложении своих и чужих рассуждений. В книге приведены также выдержки из дневника А.Е.Лабзиной 1818 года. С бытовой точки зрения ее воспоминания ценны как памятник давно минувшей эпохи, как материал для истории русской культуры середины XVIII века.

Граф Геннинг Фридрих фон-Бассевич (1680–1749) в продолжении целого ряда лет имел большое влияние на политические дела Севера, что давало ему возможность изобразить их в надлежащем свете и сообщить ключ к объяснению придворных тайн.Записки Бассевича вводят нас в самую середину Северной войны, когда Карл XII бездействовал в Бендерах, а полководцы его терпели поражения от русских. Перевес России был уже явный, но вместо решительных событий наступила неопределенная пора дипломатических сближений. Записки Бассевича именно тем преимущественно и важны, что излагают перед нами эту хитрую сеть договоров и сделок, которая разостлана была для уловления Петра Великого.Издание 1866 года, приведено к современной орфографии.

«Рассуждения о Греции» дают возможность получить общее впечатление об активности и целях российской политики в Греции в тот период. Оно складывается из описания действий российской миссии, их оценки, а также рекомендаций молодому греческому монарху.«Рассуждения о Греции» были написаны Персиани в 1835 году, когда он уже несколько лет находился в Греции и успел хорошо познакомиться с политической и экономической ситуацией в стране, обзавестись личными связями среди греческой политической элиты.Персиани решил составить обзор, оценивающий его деятельность, который, как он полагал, мог быть полезен лицам, определяющим российскую внешнюю политику в Греции.

Иван Александрович Ильин вошел в историю отечественной культуры как выдающийся русский философ, правовед, религиозный мыслитель.Труды Ильина могли стать актуальными для России уже после ликвидации советской власти и СССР, но они не востребованы властью и поныне. Как гениальный художник мысли, он умел заглянуть вперед и уже только от нас самих сегодня зависит, когда мы, наконец, начнем претворять наследие Ильина в жизнь.

Граф Савва Лукич Рагузинский незаслуженно забыт нашими современниками. А между тем он был одним из ближайших сподвижников Петра Великого: дипломат, разведчик, экономист, талантливый предприниматель очень много сделал для России и для Санкт-Петербурга в частности.Его настоящее имя – Сава Владиславич. Православный серб, родившийся в 1660 (или 1668) году, он в конце XVII века был вынужден вместе с семьей бежать от турецких янычар в Дубровник (отсюда и его псевдоним – Рагузинский, ибо Дубровник в то время звался Рагузой)