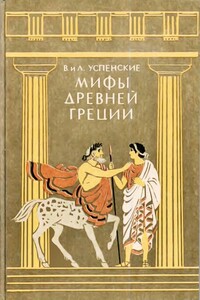Скобарь - [7]
— Товарищ старшина, — спросил он, легко шагая своими неутомимыми ногами лесника по мокрому октябрьскому бурелому, — чего это командир-то велел? Какого еще языка ему нужно?
— Обыкновенного. Немца. Надо выяснить, какие тут новые части у них стоят.
— Привесть ему немца? Капитану? — почтительно осведомился скобарь.
— Ну да, капитану. Надо сделать, брат Журавлев.
— Да уж коли велено, так, видать, надо! — дисциплинированно заметил Иван Егоров. На этом их разговор и окончился.
Старшине Габову никак не могло прийти в голову, что слово «привести» имеет для прирожденного псковича совсем особое значение, что на севере Псковщины сплошь и рядом говорят: «Я вчера много грибов из лесу привел», или: «Смотри-ка, какую я палку себе привел».
Дальнейшие события развернулись так.
Группа, совершив разведку, пришла без потерь, принеся ценные сведения, небольшие трофеи (шкатулку с документами, новой марки мину от ротного миномета), но немца захватить не удалось. Журавлев же — это за ним водилось, и отучить его от партизанских обыкновений было нелегко — где-то отстал и не вернулся вместе с другими.
Никто особенно не встревожился: медведь в лесу не пропадет! Его даже не вздумали записывать в «без вести пропавшие». Журавлева уже знали.
И на самом деле, утром следующего дня он стал перед Савичем, как лист перед травой.
Из разговора выяснилось, что он «взял маленько левее», наткнулся на тяжелую батарею противника, засек ее местоположение, переночевал в стоге сена, долго следил за лесозаготовками врага (немцы строили там блиндажи на высотке), подсчитал число машин, идущих по дороге в К., — словом, сделал немало. Савич пожурил его за излишнюю предприимчивость, проявленную без разрешения начальства, и хотел уже отпустить, считая разговор оконченным.
— Товарищ капитан! — сказал тогда вдруг Журавлев. — А я к вам там фюрера одного привел…
Савич так и подпрыгнул:
— Как фюрера? Немца? Да что ты говоришь? Чего ж ты раньше молчал? Где он?
Пскович небрежно кивнул за окошко по направлению к лесу, вплотную окружавшему савичевский штаб.
— Да эва, на покрестнях, коло заставы ляжить!
— Лежит? — удивился командир. — Почему лежит? Он что, раненый, что ли?
— Дохлый! — безмятежно ответил Журавлев, тщательно свертывая крученку. — Ну, в превеликую силу доволок; думал, всё мое — не доволоксти!
— Как дохлый? — ужаснулся Савич. — Так на кой же мне черт мертвый немец? И ты его от них сюда мертвого на себе тащил? Голубчик мой, да мне мертвых совсем не надо…
Скобарь перестал крутить табак и, открыв рот, недоуменно воззрился на командира.
— Не, он пёрва живой был… горазд живой. Кусался! Идти ни в жисть не хотел…
— И ты что же, убил его?
— Не, зацем бить? Сохрани бог, я его не бил! Так, помял цуток: уж оцень брыкается, никак с ним не сообразишь…
— А он?
— Сдох цаво-то, — огорченно пожал плечом этот удивительнейший человек. — Ну ж, я думаю, хоть ты дохлый, хоть ты живой, а я ж тебя привяду к капитану! Вот и привел. А знал бы, цто он вам не горазд надо, — да стал бы я его зря столько волоксти, падину такую…
— Вот, понимаете, — говорит и сейчас Савич, — и смех и грех с ним! Черт ли его знал, что у него «привести» и «принести» путаются. Ну что ж? Вышли мы на улицу… Лежит немчик. Щупленький такой, лет двадцати… Ефрейтор, Эрвин Хаазе из Билефельда на Рейне. До войны был приказчиком в универмаге. Вот тут у меня письма от его Анны Лизы, карточка, талисман с богородицей какой-то… Как же, спасет богородица от таких лап! Эх ты, Жоров ты, Жоров!..
Над Журавлевым смеялись в отряде целую неделю. Немца зарыли около дороги под сосной.
Когда же неделю спустя наметилась новая операция, Журавлев уже проявлял полное понимание того, что значит термин «привести языка», и усердно просил у командира разрешения выполнить эту задачу.
Вот тщательно переписанный отрывок из рапорта старшего сержанта Самуила Кацмана о том, что произошло в тот день в тылу у противника возле сто двенадцатого километра железной дороги.
«Подойдя к полотну кустами, по азимуту 106, как раз в том месте, где оно сходится с железной дорогой, мы залегли. Шоссе отлично просматривалось на протяжении 150–200 метров в самой вершине образуемого им здесь крутого извива. По шоссе из Кирилловки в Огнево в это время шел обоз. Нами были подсчитаны 65 фур с обмундированием и порожней тарой от боеприпасов. Обоз шел под сильной охраной, так что обнаруживать себя противоречило смыслу.
Обоз выходил из-за кустистого косогора справа и скрывался влево за таким же кустистым холмом. Когда последняя подвода прошла, я уже намеревался переменить позицию, но в эту минуту на открытое пространство выехал из-за поворота фашистский офицер на велосипеде. Отстав на сотню-другую метров от своих, он газовал вовсю, очевидно боясь одиночества.
Когда он почти поравнялся с нами, краснофлотец Журавлев, не дожидаясь приказа с моей стороны, одним прыжком настиг его и, сбив с машины, скрутил ему руки. Затем немец был перетащен в кустарник, обыскан и оказался обер-лейтенантом 391-го пехотного полка Гергардом Шпехтом, который при сем препровождается. Велосипед утопили в яме с водой.
Считая, что ввиду взятия языка основная цель нашей операции достигнута, я приказал начать отход.
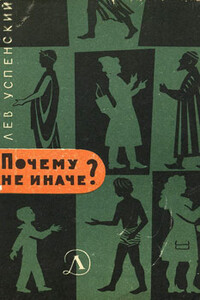
Лев Васильевич Успенский — классик научно-познавательной литературы для детей и юношества, лингвист, переводчик, автор книг по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и тропам языка»— многие из этих книг были написаны в 50-60-е годы XX века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед вами одна из таких книг — «Почему не иначе?» Этимологический словарь школьника. Человеку мало понимать, что значит то или другое слово.
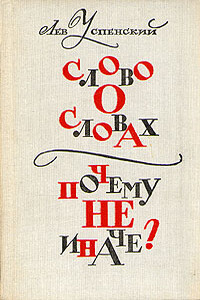
Книга замечательного лингвиста увлекательно рассказывает о свойствах языка, его истории, о языках, существующих в мире сейчас и существовавших в далеком прошлом, о том, чем занимается великолепная наука – языкознание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
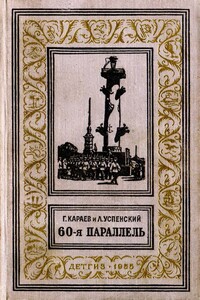
«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.События «Шестидесятой параллели» развертываются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад развертывались события «Пулковского меридиана».Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.
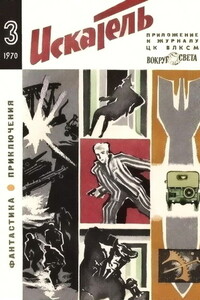
На 1-й странице обложки — рисунок А. ГУСЕВА.На 2-й странице обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к очерку Ю. Платонова «Бомба».На 3-й странице обложки — рисунок Л. КАТАЕВА к рассказу Л. Успенского «Плавание «Зеты».
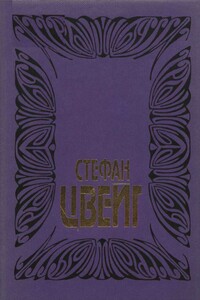
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».
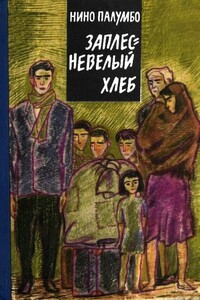
«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.
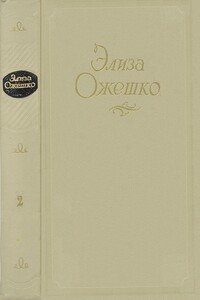
Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
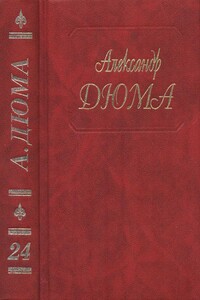
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
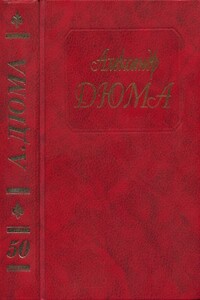
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.