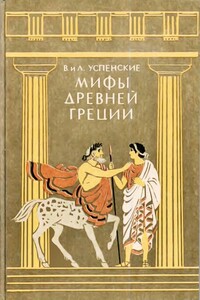Скобарь - [4]
— Попробовать разве?
— Как тебе говорить? Такой большой нарушение устава был бы огромный безобразие… Но подумаем так: Журавлев — краснофлотец? Еще нет! В ряды флота мобилизован? Еще нет… Форму получал? Опять еще нет… Так разве не имеет права молодой, веселый командир немного бороться с какой-нибудь вольный товарищ? Так — шито-крито, не для публики! Давай завтра утречком ты, он, я… Отойдем тихо-смирно куда-нибудь в сторонку, так сказать, за кулисы, и… Смелый богом владеет, по русской пословице…
Так и было постановлено.
На рассвете седьмого числа кандидат в разведчики флота Журавлев Иван был срочно вызван к капитан-лейтенанту. Затем командир и комиссар ушли в сад мызы на пруд; должно быть, искупаться, Журавлев с винтовкой сопровождал их: фронт, безоружным от дома — ни на шаг!
Было теплое утро, на траве лежала роса, от яблонь пахло крепко и пьяновато — белым наливом. Кок Мелентьев, резавший лук на садовой скамье, посмотрел им вслед.
— Гляди, чудо-то наше командиры куда-то повели… Не в пруду ли утопить хотят, дал бы бог… Смотри, борода каким павлином вышагивает: что твой индюк! — сказал он дежурному по камбузу Паше Шевелеву.
Полчаса спустя все трое вернулись. Только теперь Иван Егоров Журавлев шел отнюдь не по-павлиньему. Наоборот, он плелся нога за ногу, отстав на десяток шагов от весело обсуждавших что-то капитан-лейтенанта и комиссара. Крайнее недоумение, можно сказать, полная растерянность была написана на его рыжебородом лице; он покачивал головой, разводил руками, время от времени останавливался и снова и снова крепко потирал рукой затылок и шею, точно испытывая их на прочность.
Когда они поравнялись со скамейкой, Савич поманил пальцем кока.
— Мелентьев, — сказал он, — найдите Широких или Габова. Скажите: я приказал остричь краснофлотца Журавлева, обрить, обмундировать и вообще привести в воинский вид… И — доложить мне. Исполняйте приказание!
Они вошли в дом, а Журавлев сел на скамыо под усыпанной плодами яблоней и снова молча пощупал шею.
— Скажи на милость, — в полном недоумении тонким голоском жалостно пробормотал он, уставясь в какую-то одну точку перед собою, — Микола милосливый! Ведь поборола Жорова няцистая сила, што ты будешь делать? Тольки взялись — как он ляпне!.. Судрыг, и — ляжу! Ай, вот змяя дужая, ай!.. Ну каво ж тяперь? Огребай тяперь, кашевар, Жоровову бороду, режь яну долой самосильно… Все ровно теперь я целовек ня свой — казенный!
ЖУРАВЛЕВ-АЗРАИЛ[1]
Капитан-лейтенант Савич ведет официальный журнал боевых действий части. Но, помимо того, есть у Савича еще и свой альбом для личных записей. Переплет из добротной темно-коричневой шагрени с маленьким замочком и ключиком к нему. На титульном листе приклеена фотокарточка какой-то барышни в белых кудряшках. Из подписи под снимком видно, что альбом этот в 1940 году принадлежал некой Эрике Тооц. На первых страницах альбома красуются безупречные розаны: они окаймляют гирляндами четверостишия эстонских стихов. По другим страницам там и сям кувыркаются розовые амурчики — мальчишки с крыльями мотыльков — и через символические подковки счастья скачут упитанные свинушки.
А на полях альбома идут пометки и цифры совсем другого порядка:
«Патрон, винт. 7381; патр. ТТ — 200 пачек».
«Вайда — 2-х, один офицер. Топорок — 3-х, плюс один ранен».
В другом месте изображена схема какой-то высотки с трехорудийной батареей, лукаво скрытой за извилистой рекой. Схема набросана кое-как, по-видимому обгоревшим концом спички.
Савичевские записи небрежны, неразборчивы, порою совсем непонятны. Но если бы кто-нибудь доставил этот альбом в немецкий штаб, немцы не обратили бы никакого внимания на изящные рисунки, а к неряшливой капитанской мазне проявили бы живейший интерес.
Таков альбом капитан-лейтенанта Савича. В общежитии его так и называют: «Эрика Тооц». Когда надо вспомнить что-либо важное из прошлого отряда, сотрудники капитана говорят ему: «Товарищ командир, это же у вас в „Эрике Тооц“ записано!»
Из «Эрики Тооц» я и узнал одну удивительную историю о делах Ивана Журавлева, печорца, разведчика.
В августе 1941 года отряду Савича было поручено почетное и нелегкое задание: надо было выделить восемь или десять парашютистов из состава бойцов для переброски в глубокий тыл противника. С самого начала было ясно: многие из них не вернутся.
В альбоме Савича это событие отмечено коротко: «Прыгуны. Склока в отряде».
«Склока» действительно была. Как только прибыл приказ, среди бойцов начались «интриги и происки». Люди, до сих пор жившие душа в душу, несмотря на чрезвычайное разнообразие возрастов, душевных складов и мирных профессий, люди эти чуть не переругались друг с другом. Каждый стремился «опорочить» другого, доказать, что не тот, а именно он подходит для переброски во вражеский тыл.
Вайда, комсомолец-осоавиахимовец, шипел на Шагунова: «Он парашюта и близко не видел!» Перетерский как бы невзначай напомнил политруку, что у Короткова дома большая семья, а что он, Павел Перетерский, напротив того, един, как перст, холост и независим; кого же послать, как не его?
Командир и политрук пресекли все эти «подвохи» и «подкопы». Когда после длительных обсуждений список командируемых наконец утвердили, к капитан-лейтенанту явился Журавлев. Теперь он уже ничем не походил на того лешака-печорца, каким он недавно явился в отряд. На его широчайших плечах аккуратно лежал форменный балтийский воротник. Золотые буквы на бескозырке сияли. Клеш на брюках был сантиметров в тридцать пять, никак не меньше установленного. Щеки его были гладко выбриты; казалось, ему даже меньше лет, чем на самом деле.
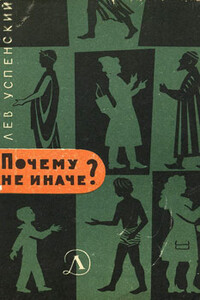
Лев Васильевич Успенский — классик научно-познавательной литературы для детей и юношества, лингвист, переводчик, автор книг по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и тропам языка»— многие из этих книг были написаны в 50-60-е годы XX века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед вами одна из таких книг — «Почему не иначе?» Этимологический словарь школьника. Человеку мало понимать, что значит то или другое слово.
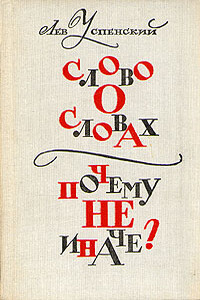
Книга замечательного лингвиста увлекательно рассказывает о свойствах языка, его истории, о языках, существующих в мире сейчас и существовавших в далеком прошлом, о том, чем занимается великолепная наука – языкознание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
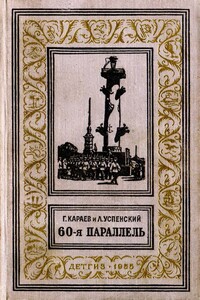
«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.События «Шестидесятой параллели» развертываются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад развертывались события «Пулковского меридиана».Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.
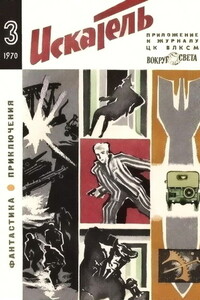
На 1-й странице обложки — рисунок А. ГУСЕВА.На 2-й странице обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к очерку Ю. Платонова «Бомба».На 3-й странице обложки — рисунок Л. КАТАЕВА к рассказу Л. Успенского «Плавание «Зеты».
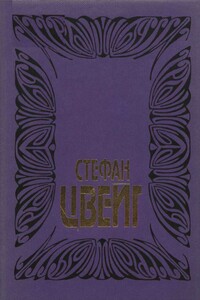
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».
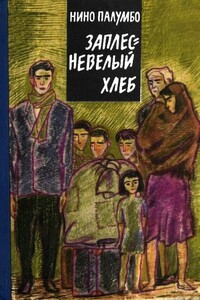
«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.
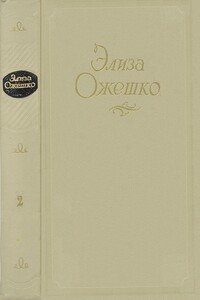
Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
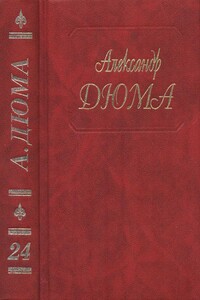
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
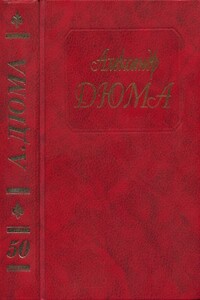
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.