Сиваш - [21]
— Спасибо, научил, — ответил Матвей. — Стало быть, пришла нужда ночью копать тайник, опять глиной обмазывать, соломой опаливать. Не только мыши, но чтоб и ты не нашел мою пшеницу, хотя и думаешь, что эта пшеница — твоя…
— Не шути, не шути, Матвей Иванович! — строго прикрикнул Соловей.
На столе дымилось угощение — Феся принесла, поставила. Но Матвей поднялся.
— Ладно, бывайте!
Чужим прошел мимо Феси, мимо Никифора, тихо сидевшего в углу. Плотно закрыл за собой легкую, сухую дверь. Уже в сенцах услышал голос Соловея:
— Погоди, погоди, Матвей!
Перед самой косовицей, вечерком, поближе к ночи, у Матвея в хате поодиночке тайно собрались соседи — покурить. Лампу не зажигали, говорили вполголоса. Перед тем Лиза надела все свои четыре юбки, кацавейку и пошла на музыку. Матвей выслал Горку к калитке: «Постой там, сынок!»
Говорили, как быть с хлебом: весь хлеб считать своим или считать себя арендаторами и половину хлеба отдать хозяевам?
— Не давать! — грозно проговорил Матвей. — Вот сговоримся — и ни фунта!
Кто-то раздумчиво, хрипловато прогудел:
— Не отдашь — он с карателями пожалует во двор, не знаешь, что ли?..
— А я говорю: нас, дурней, много, на всех не хватит карателей. Сховать хлеб, самим погулять где-нибудь — вот как сделаем. Разговор может быть только один: ничего не знаем, сход постановил, списки есть, — стало быть, для себя убираем. За себя скажу: ни одного колоса Соловею не отдам! Красные флаги уплыли за Днепр, и хлопцы наши там. Надолго ли — то побачим, не заслонишь солнышка рукавицей! А земля осталась землей, ну не божеской, так от общества. Не может быть над ней богаческой руки.
Затрещала, вспыхнула на миг бумага цигарки, красноватое пламя осветило стол и лицо Матвея.
— При всех заявляю: сниму урожай — и хоть гром греми, хоть режь меня, а, пока я живой, Соловей ни зернышка не возьмет. Не жадный я, а правда наша! Должен он сознавать это. Я говорю, ни зернышка ему не выдам. И на поклон к нему не пойду. Я не хочу от вас отбиваться, мужики. Что мне Соловей! Без Советской власти с ним невозможно разговаривать. Мы давай держаться дружно: один и у каши загинет, одному худо — всем нет.
Чуть ли не с ночи отец с Лизой поехали косить. Еще холодила роса, а в небе подрагивали колючие звезды — насыпано густо, как на ниве зерен в усатых колосьях.
В душной хате спал Горка — пойдет в поле с солнцем, когда пшеница высохнет на стерне. Он принесет поесть, поможет сгрести пшеницу в копны.
К полудню, собрав яичек из-под кур, в оплетенную бутыль набрав холодной воды, Горка пошел в степь. Жара — хуже чем в кузне. Вспотел, из-под брыля полились ручейки, на губах солоно… Ветер махнет — на минуту сделается свежее, издалека доносятся голоса, неясный крик, песня. Кругом циканье — кузнечики пилят, пилят и никак перепилить не могут. Где-то справа стрекочет лобогрейка, ей отзывается другая со стороны млеющего Сиваша, а за курганом пыхтит паровик при молотилке, чадит в небо легким дымком.
У края неба видны белые хатки, над ними тополь один, другой. Это — польское селение. По земле скользят тени от крыльев птиц, летают под самым солнцем…
Горка шел целиной. Ступил на горячую дорогу — в ноздри ударила душная пыль. Быки и лошади, запряженные в длинные мажары, в брички, везли воду для работников — косцов и возчиков, которые свозили пшеницу в скирды. Лучшие кони сейчас в лобогрейках. Горке хотелось посмотреть, как они, здоровые, лоснящиеся, тянут лобогрейку, а скидальщики знай машут скидалками, сбрасывают на стерню срезанную пшеницу.
Еще только начали косить, а в экономии уже молотят пшеницу… Хорошо бы сбежать с дороги за курган, глянуть на горячий паровик! Но некогда: надо копнить пшеницу. Была дядька Соловея, а теперь своя.
Возле дороги, в сухом, окруженном травой бугре, круглые темные дырки — сусличьи норы. Суслики в глубине крутили ходы вниз, вверх под самый бугор, — дождь нору не затопит. Выглянет суслик из земли, ослепится солнцем, подышит — и юрк обратно. Если посторожить с лопатой — раз! — и суслик твой. Еще одна шкурка в прибыль. Но сейчас некогда сторожить, надо идти копнить свою пшеницу.
Горка выставил под солнце лицо — пусть жарится, обсыхает. Это только Лиза насунет белый платок по самые губы, носа не видно. Ради красы. Ей страсть охота покрасоваться. Уши колола, говорила — не больно. Теперь болтаются сережки. А зацепится за что — порвет ухо. С Христей так было… Эти глупости Горка не мог понять.
Горка услышал позади конский топот. Заслонился рукой от солнца. На белом с дымчатой мордой жеребчике догонял дядько Соловей. Сам сидел в бедарке. Хороший, приятный человек: Горка давно сладился с ним. Бывало, пойдет в степь нарочно мимо его хаты, дядько Соловей непременно зазовет, попросит: сделай это, Горка, сделай то, скажем, оббей палкой пыльные мешки, почисти конюшню. Даст потом покушать, небольно щелкнет в лоб и засмеется. Добрый человек! Если перед ним сплясать — усадит за арбуз. Горка плясал, как на вечеринке, гопака и самый лучший танец — казы. Этот танец пляши хоть вниз головой, хоть на руках, вертись, кидай ногами, выдумывай как хочешь. Бывало, спляшешь так, а дядько похохочет, даст конфетку.
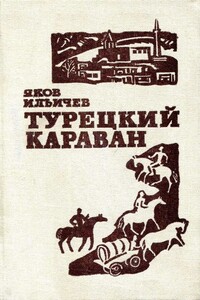
В романе ленинградского писателя Якова Ильичева «Турецкий караван» раскрывается важный эпизод из истории советской внешней политики первых послереволюционных лет, когда ее определяли В. И. Ленин и Г. В. Чичерин. Это — поездка главкома Украины М. В. Фрунзе с дипломатической миссией в Анкару к Мустафе Кемалю, возглавлявшему антиимпериалистическую буржуазно-национальную революцию в Турции. Много дней по горным дорогам Анатолии и в повозках и верхом продвигались посланцы Советского государства. Глубоко сознавая свой интернациональный долг, мужественно и целеустремленно М. В. Фрунзе и его товарищи преодолевают все трудности опасного пути.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.