Символисты и другие - [16]
Забота о возможно более точном, веском, семантически емком словесном воплощении мысли в творческих опытах Коневского всегда присутствует на первом плане. Многие беловые рукописи его стихотворных и прозаических произведений содержат незачеркнутые варианты – приписанные над словами основного текста слова-дубликаты, отражающие колебания автора относительно того, какому нюансу смысла следует отдать предпочтение при выборе одной из двух близких или сходных по значению лексических единиц. В этом смысле весьма любопытны вариативные элементы в автографах стихотворений Коневского. Такие варианты относительно немногочисленны – в особенности при сопоставлении с творческим наследием тех поэтов, которые были склонны радикально перерабатывать свои произведения, – но весьма характерны отразившимся в них стремлением подыскать слово или высказывание, наиболее точно формулирующее вынашиваемую поэтическую мысль. Так, черновой автограф стихотворения, опубликованного под заглавием «Недоумение»,[96] содержит три варианта заглавия – первоначальное, зачеркнутое («Тревога») и еще два незачеркнутых, записанных в один ряд («Боязнь» и «Смущение»): автор колеблется между двумя словами, по-разному передающими общий, синтезирующий смысл текста; предпочтение же было отдано четвертому варианту. Собственно в тексте того же стихотворения – сходные колебания, отражающие поиск наиболее адекватного слова. В двустишии «И нет всего, что дух лишь заклинает, // Проникнутый собой?» вторая строка заменяется в черновом автографе на «Влекомый лишь собой?», а в печатной редакции – на «Заворожен собой?». Заключительные строки в первоначальной записи: «Предстанет ли природы откровенье, // Иль снова дни пойдут?»; первая из этих строк исправляется: «Настанет ли кончины откровенье»; окончательная версия: «Настанет ли навеки откровенье, // Иль снова дни уйдут?» Черновых текстов стихотворений Коневского сохранилось не слишком много (в основном те, которые содержатся в его записных книжках), однако и представленные в большем объеме беловые автографы свидетельствуют о том, что автор при подготовке их к печати часто вносил правку – заменял отдельные слова и фразы, не нарушая общей изначально сложившейся художественной структуры и руководствуясь лишь стремлением к предельной образно-семантической отчетливости, филигранности поэтического высказывания.
Д. П. Святополк-Мирский относит Коневского к тому типу поэтов, чье творчество «складывается не из переживаний и настроений, а из объективированных образов и мыслительных обобщений»; по мнению критика, в русской поэзии этот тип мало представлен: до Коневского – Ломоносовым и Случевским, после Коневского – Хлебниковым.[97] Такое соединение упомянутых четырех поэтов может показаться произвольным, но едва ли опровержима мысль о том, что стихам Коневского трудно подыскать аналогии в творческих опытах его сверстников. И в своем понимании задач, стоящих перед поэтическим творчеством, Коневской занимал особую позицию в кругу русских символистов. Брюсов отмечает: «Коневской был совершенно чужд того культа формы в поэзии, которому мы, москвичи, служили тогда до самозабвения. В последнем счете для Коневского поэзия все же была только средство, а никак не “самоцель”. В каком бы то ни было смысле формула “искусство для искусства” была для Коневского неприемлема и даже нестерпима».[98] В своей мистической устремленности к постижению мирового всеединства Коневской также стоял особняком среди деятелей «нового» искусства, сформировавшихся в 1890-е гг., во многом предвосхищая творческие искания символистов «второй волны», заявивших о себе в литературе в первые годы XX века, – Александра Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова. Поэтические дерзания, не исполненные высшего смысла, не вписывающиеся в обобщающую философскую перспективу, представляются ему ненужными, не имеющими никакой серьезной значимости, и с этой ригористической точки зрения он пристрастно оценивает произведения других приверженцев символистского направления. Глубокого содержания для него исполнены творческие устремления А. Добролюбова: «…создано им было особое творчество – не художественное и не научное, а составленное из отражений и теней, с одной стороны – от внешних впечатлений и настроений воображения, с другой стороны – от понятий и обобщений отвлеченной мысли» («К исследованию личности Александра Добролюбова», 1899).[99] Самой высокой оценки удостаивается Федор Сологуб, мастер точного и неизукрашенного поэтического слова (в письме к нему Коневской признается: «Я верую в святость Вашего творчества»[100]). Стихи Брюсова Коневской принимает строго избирательно: наряду с высокими оценками высказывает – нередко в непререкаемом тоне – критические замечания; таковых в его письмах к Брюсову имеется множество. Сугубо формальные искания, благодаря которым стараниями символистов на рубеже XIX – XX веков произошло радикальное обновление русской поэзии, чужды Коневскому именно в силу своего панэстетизма, провозглашающего взамен «мировоззрения поэзии» самоценные художественные цели, и поэт, наиболее ярко и полно отразивший эти тенденции в своем творчестве, – К. Д. Бальмонт – со временем начинает вызывать у него все более резкое неприятие. Для альманаха «Северные Цветы» Коневской предложил в ноябре 1900 г. «краткую эпиграмму» (которая тогда осталась неопубликованной), содержащую отзыв о книге Бальмонта «Горящие здания»: «Поэт говорит во вступительном стихотворении к сборнику: я хочу кричащих бурь. В этом обозначении исчерпана сущность его новой поэзии. Бури г. Бальмонта не воют, не ропщут, не бушуют, а кричат, визжат, орут “благим матом”, как теленок, которого режут, или “караул!”, как прохожий, на которого напали мазурики ‹…› визг не умолкает на протяжении нескольких сотен страниц, и критику остается поплотнее заткнуть уши».
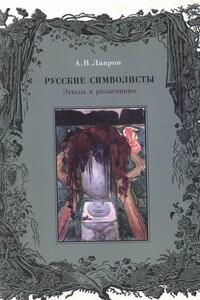
В книгу известного литературоведа вошли работы разных лет, посвященные истории русского символизма. Среди героев книги — З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. Иванов, И. Коневской, Эллис, С. М. Соловьев и многие другие.
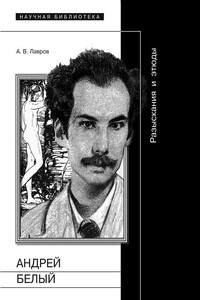
В книгу вошли избранные статьи и публикации известного исследователя истории русской литературы символистской эпохи, посвященные изучению жизни и творческих исканий Андрея Белого и в большинстве своем опубликованные ранее в различных отечественных и зарубежных изданиях, начиная с 1970-х гг. В ходе работы над книгой многие из них исправлены и дополнены по сравнению с первопечатными версиями. Биография и творчество Андрея Белого анализируются в широком контексте современной ему литературной жизни; среди затрагиваемых тем — поэзия Белого, его романы «Серебряный голубь» и «Петербург», мемуарное наследие писателя.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю».