Символическая история европейского средневековья - [2]
Шестнадцать представленных здесь глав явились результатом исследований в области символики, иконографии и колористики за последние тридцать лет. Некоторые, уже опубликованные, фрагменты были исправлены, дополнены или переписаны специально для данной книги. Некоторые остались без изменений. А некоторые ранее не публиковались. Все затронутые здесь темы обсуждались на семинарах, которые я веду в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук в Париже в течение последних двадцати лет. Все они являются плодом долгих размышлений и результатом вторжения в такие исследовательские области, в которые университетская историческая наука захаживает совсем нечасто. Объединяя в одном томе все эти работы, я не претендую на составление трактата о средневековом символе, а всего лишь намереваюсь наметить возможные ориентиры зарождающейся дисциплины: символической истории. С этой целью я бы хотел привлечь внимание к ряду базовых понятий, приступить к изучению некоторых областей, в которых символ проявляет себя особенно активно, выявить основные способы функционирования символа и его смысловые уровни и, наконец, наметить возможные пути дальнейших исследований.
Этимология
Наверное, легче всего определить и охарактеризовать средневековый символ можно посредством лексики. Чтобы понять его устройство и назначение, нужно в первую очередь изучить лексические факты. До XIV века многие авторы ищут подлинную природу вещей или живых существ в словах: проследив происхождение и историю слова, можно добраться до «онтологической» сути объекта или субъекта, которые этим словом обозначаются. Однако средневековая этимология совсем не похожа на современную. Законы фонетики неизвестны, а родственность греческого и латинского языков отчетливо будет осознана только в XVI веке. Происхождение и историю латинского слова отслеживают, не выходя за рамки самого латинского языка и полагая при этом, что порядок знаков подобен порядку вещей. Поэтому некоторые этимологии противоречат нашей филологической науке и нашим представлениям о языке. То, что современные лингвисты, вслед за Соссюром, называют «произвольностью знака», средневековой культуре неизвестно. Все имеет свое обоснование, пусть даже ценой сомнительных, на наш взгляд, словесных ухищрений. Историку не пристало смеяться над такими «ложными» этимологиями. Наоборот, он должен рассматривать их как полноценные свидетельства культурной истории... и помнить о том, что наши собственные знания, которые кажутся сегодня научно обоснованными, возможно, через три-четыре поколения вызовут у филологов улыбку. Также нельзя упускать из виду того, что некоторые средневековые авторы, начиная с Исидора Севильского, могли порой предаваться этимологическим упражнениям ради забавы. И в этих случаях мы сталкиваемся с невероятной мешаниной из умозрительных построений и весьма натянутых сопоставлений.
Тем не менее множество верований, представлений, символических систем и поведенческих кодов объясняются той самой заключенной в словах подлинной сутью вещей. Это касается всех частей речи, но прежде всего существительных: имен нарицательных и имен собственных. Приведем несколько примеров, которые будут затрагиваться и разбираться в дальнейшем. Орех считается вредоносным деревом, потому что обозначающее его латинское слово пих обычно связывается с глаголом nосеrе, то есть «вредить». Значит, орех — дерево пагубное: если не хочешь, чтобы тебя навестил дьявол или злые духи, не засыпай под его кроной. На яблоню распространяется та же логика: обозначающее ее слово malus напоминает mal, то есть «зло». Из-за своего имени яблоня в преданиях и иконографии превратилась со временем в древо запретного плода, причину первородного греха и грехопадения. В имени и именем сказано все. Изучение средневековой символики всегда должно начинаться с изучения лексики. Во многих случаях это направит историка на истинный путь и заставит его воздержаться от чересчур позитивистских интерпретаций или же от применения психоаналитического подхода, чаще всего совершенно неуместного. Так, некоторые французские рыцарские романы XII—XIII веков сбили с толку многих ученых: в них говорилось о вручении победителю турнира странной награды — щуки. Ни общая символика рыб, ни конкретное символическое значение щуки никак не могут объяснить выбор такого вознаграждения; кроме того, вопреки тому, что пишут ученые, ни мутная юнгианская идея о воде как примордиальном
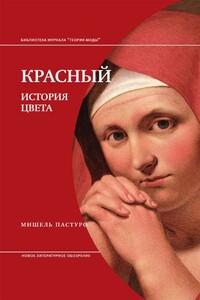
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.
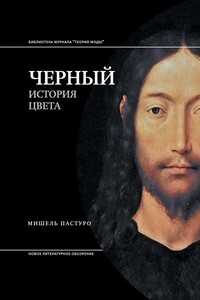
Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро – истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.