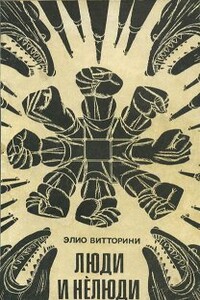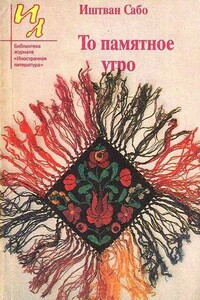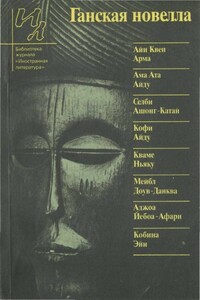А точильщик сказал: — Поговори с ним о нашем друге, Езекиеле!
— Каком друге? — спросил голос. В темноте позади этого голоса обозначились очертания человека, он зашевелился, и, казалось, зашевелилась вся тьма: такой это был великан. Красивый, теплый голос где-то рядом с подошедшим ко мне ближе в слабом свете двери мужчиной спросил еще раз: — Какой друг? Вот этот синьор?
— Этот синьор, — ответил человек Езекииль. — Как и ты, Порфирио, как точильщик Калоджеро, как я, как многие другие в мире под луной, он страдает, ему больно за мир, который терпит обиды.
— А! — воскликнул необъятный человек.
Он подошел еще ближе, и теплый бриз его дыхания взлохматил мне волосы на голове.
— А! — воскликнул он снова. С высоты спустилась его широкая ладонь, отыскала мою и охватила ее в пожатье, несмотря ни на что, очень мягком. — Очень приятно, — проговорил он у меня над головой. И переспросил, обращаясь к остальным: — Вы говорите, он страдает?
Его дыхание у меня в волосах было как горячее сирокко, его рука с мягкой силой удерживала мою, а сам он повторял: — Очень приятно… Спасибо…
— Пожалуйста… — ответил я. — Не за что…
— О! — сказал человек. — Очень даже есть. Такая честь для меня! — А я сказал: — Это для меня честь.
А человек сказал: — Нет, для меня, синьор. — И, опять обратившись к остальным, он переспросил, ероша дыханием мои волосы: — Значит, он страдает?
— Да, Порфирио, — ответил ему человек Езекииль. — Страдает, и не за самого себя.
— Не из-за мелочей, — пояснил точильщик. — Не оттого, что его оштрафовали, не оттого, что попытался сыграть шутку с ближним…
— Нет, — сказал человек Езекииль. — Он страдает от всеобщего горя. — А точильщик добавил: — От боли мира, который терпит обиды.
В темноте человечище по имени Порфирио прикасался теперь к моей голове, к лицу и восклицал: — А! Понимаю и ценю.
— Ножи-ножницы! — завопил точильщик.
— Ножницы? — тихо повторил великан по имени Порфирио. Он был сгустком темноты, из которого, подобно благодатному Гольфстриму, исходило обнимавшее нас тепло, с ветром на вершине, с глубоким, нежным голосом. — Ножи? — повторил он. И глубоким, нежным голосом сказал: — Нет, друзья, не ножницы, не ножи нужны и не прочее в этом роде: нужна живая вода.
— Живая вода? — пробормотал точильщик.
— Живая вода? — пробормотал человек Езекииль.
А Порфирио продолжал: — Я вам говорил много раз и опять говорю. Только живой водой можно смыть обиды, нанесенные миру, и утолить жажду рода человеческого, который их терпит. Но где живая вода?
— Где есть ножи, там и живая вода, — сказал точильщик.
— Где чувствуют боль мира, там и живая вода, — сказал человек Езекииль.
Мы были теперь погружены в ночь, голоса стали тише, никто не мог бы услышать наших слов. Мы стояли тесно, сблизив головы, и Порфирио был как огромный пес сенбернар, который всех — и самого себя тоже — согревает своим теплом. Он долго говорил о живой воде; и человек Езекииль говорил тоже, и точильщик тоже, и слова были тьмою во тьме, а мы — тени, мне казалось, что я вошел в круг беседующих духов. Потом голос Порфирио снова стал громким: — Пошли к Коломбо, выпьем по стаканчику. Я угощаю.
Он сдернул полотнище, вывешенное над дверью, запер лавку и повлек нас своим теплым течением по улице.
Только у Коломбо он обрел очертания и краски. Оказалось, что ростом он в два метра, в плечах — метр, одет в темную овчину, на голове у него полно волос, седых пополам с черными, глаза — синие, борода — каштановая, а руки — красные; словом, настоящий пес сенбернар с великодушным взглядом.
— Привет, Коломбо! — сказал он с порога.
Тачка точильщика тоже вошла с нами; кабачок освещался газом, посетители пели:
— Кровь святого Тарабумбия…
Коломбо — тот, что был за стойкой, — носил желтую косынку, по-пиратски повязанную вокруг головы.
— Оле! — ответил он.
А человек Езекииль сказал: — Вина! Эти синьоры — мои гости. — Твои? — мягко воспротивился Порфирио. — Это я всех пригласил.
Поющие сидели на скамье у стены, стола перед ними не было, в руках они держали маленькие железные кружки и в такт песне все вместе качали головой и туловищем.
— Но я пригласил раньше, — объяснил Езекиеле.
— Вот вино, — сказал Коломбо и поставил на стойку четыре полных кружки. И прибавил с улыбкой: — Пусть это будет угощение синьора Езекиеле. А потом может угостить синьор Порфирио.
— Правильно, — сказал человек Езекииль.
— Понимаю и ценю, — сказал Порфирио. И поднял кружку. — Весьма польщен.
Человек Езекииль поклонился. Я тоже поклонился. А точильщик крикнул «ура».
Посреди кабачка без столиков горела жаровня, перед ней, присев на корточки, грели руки два молодых батрака. Коломбо черпал из бочки, наполнял все новые кружки, люди на скамейке негромко пели, раскачиваясь, и от пола, от стен, от темного свода исходил вековой запах вина, вина и еще вина. Все прошлое вина в человеке окружало нас в этот миг.
Чему ты кричишь ура? — спросил человек Езекииль.
— Ура вот этому! — провозгласил точильщик, поднимая кружку.
— Этому? — сказал Порфирио. — Чему этому?
Он выпил, и все выпили, и я тоже, и пустые кружки звякнули о мокрый цинк стойки. Коломбо подошел от бочки с новым вином.