Гиди сел, прислонившись к стволу оливы, и мысленно повторял, как мантру: у меня родился сын, у меня родился сын; он чувствовал, что больше не может, что просто обязан выкрикнуть это, именно по-арабски, и медленно повернулся к стволу и спрятал лицо в широком, ласкающем прикосновением древесном дупле. Там царил сумрак и пахло милым, далеким запахом. Гиди не знал, кто — он или люди — виноват в том, что он никому не может довериться, не верит тому, что видит глаз, ни самым простым и естественным чувствам, которые в его умелых руках сделались средством манипуляции.
Тогда он подумал, что больше не желает находиться там, во мраке, возникшем, когда два разных народа повернулись друг к другу своими темными сторонами, и эта мысль испугала его, потому что он очень любил свою работу, и верил в нее, и считал, что она позволяет ему правильно прожить свою жизнь. Но он также отчетливо понимал, что если два яблока соприкоснутся друг с другом маленьким гнилым пятнышком, гниль распространится на оба плода и поглотит их целиком.
Он съежился, и свернулся клубком, и лежал так какое-то время, а потом встал и вернулся к тендеру, двигаясь тяжело и зная, что ему очень горько, и что-то неясное застилало ему темной пеленой глаза — даже посреди этого беспощадного света.
2001





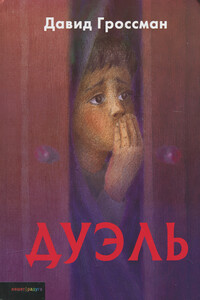

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)



