Шутиха-Машутиха - [146]
Стихия Виолиных импульсов напоминала Арсению бурные всплески сбора макулатуры школьниками из близлежащей школы. Иногда у него месяцами копились газеты, и их никто не спрашивал. Они желтели, занимали место, и он начинал тосковать по исполнительным школьникам: жаль было просто так выбрасывать бумагу. Но он выбрасывал, когда стопки на полу мешали, особенно ночами, в кои он бодрствовал, не зажигая света, и бесцельно ходил, одурманенный видениями, из комнаты в кухню, потирал руки, словно они у него замерзли, а предстояло тут же взяться за лепку. Стопки газет мешали, рассыпались, это отвлекало его, и он их подтаскивал к двери, чтобы не забыть, уходя. И случалось, что именно на другой день приходили школьники и спрашивали макулатуру. Приходили подряд, начиная первоклашками, кончая старшеклассниками. И длиться это могло неделю. С таким напором и настойчивостью, с таким неусыпным бдением, что порой звонок у двери будил его в ранний час, и тихий, но давно отработанный вопрос повергал Зубкова в тоскливое состояние, словно его в чем-то обманули. И он начинал ждать конца кампании по сбору макулатуры, жалея детей, уставая от звонков и вопросов. И за всем этим вырастал огромный НЕКТО, ненасытно отправлявший в необъятную утробу маленькие и большие кучки макулатуры. Этот НЕКТО питал настырность детей, а потом, завалившись набок, переваривал заглоченное, а над ним тоненькая детская рука, дрожа, выводила мелком кроваво-красный крыжик. «Почему крыжик, а не галочку? — спрашивал себя Зубков. — А потому, — отвечал он сам себе, — что «крыжик» — это ужасное слово, им можно «открыжить» и список, и поступившие на выставку картины, и бесстыдно-унизительный труд детей, и самого человека». Это не был постоянный, отработанный процесс, он напоминал лихорадочное метание, и оно вырастало до невероятных размеров, ответвлялось и приводило к грустным выводам. Среди огромных домов, безликих, похожих друг на друга, он начинал казаться себе кем-то и для чего-то «открыженным».
Даже работая в мастерской, ночуя там, он уходил отдышаться не в свою квартиру в сером громоздком доме, а в старую часть города. Там чудом сохранились дымники на еще крепких домах, кружевные наличники, глубоко вросшие в землю скамейки. Там пахло то свежими опилками, то начинавшими сохнуть дровами, и даже солнышко на старых улицах ощущалось совсем иначе — оно струилось вдоль бревенчатых стен, ворот и щедро отдавало тепло в улицу. Улица. У лица. Да, солнце у лица, тепло у лица, всё — лицом к лицу. Все душистое, питающие саму жизнь.
В старой части города к нему приходило замедленное восприятие конкретного дня, года, даже века. Он мог часами сидеть, любуясь огромным, вызывающе прочным сучком в воротах. Сучок дерзко сморщил близлежащую поверхность, она плавно огибала его, линия к линии, ажурно, словно успокаивая строптивца, и дальше несла свои полукужья — освобожденно, выбравшись из плена этой закавыки.
У Арсения росло уважение к неведомому дереву, мощно взметнувшему ствол, снисходительно принявшему, как щекоток, вторжение сучка.
«Суета ты досадная», — усмехался Арсений сучку и продолжал жить с деревом до той самой минуты, пока не пришло оно сюда, под лучковую ли, под продольную ли пилу, чтоб стать вот этими досками в воротах, ладно и надолго вставшими под длинный козырек. Дерево словно передало эстафету уважения мастеру-умельцу, скроившему и построившему ворота. Цветы на створках, сотворенные из отходов дерева, узорчатый козырек, калитка в елочку — все давным-давно потеряло первозданную свежесть, отдало улице запахи. Ворота как бы усохли и полегчали. Может, поэтому столь жадно вбирали солнце, напитывая трещинки и тем продлевая себе жизнь? Они будто жили за двоих — за себя и за мастера, их построившего. А что мастера давно нет, Арсения никого не надо спрашивать — какой же умелец потерпит разрушение, не вмешавшись, что-то не подновив? Вот и цветки-на створках ворот, как ромашки по осени, потеряли лепестки. Словно время гадало на них, выдергивая по одному, а потом бросило.
Только сучок из-за своей крупноты так и торчит.
Мимо всего этого бегут-пробегают целые поколения, а в ворота сколько вошло, сколько вышло? Какие это были люди? Добрые, злые? Что думали, перешагивая через порог? Что несли в дом, что уносили? Какая женщина первой вошла в него? Счастлива ли была?
Арсений представлял их всех, много живших за воротами людей. И они будто посидели с ним рядышком и ушли. Кто совсем, кто ненадолго.
Саня Уватов из таких же ворот своего деревенского дома вышел и унес щемящую тоску по первозданной красоте. Конструктивизм, абстракция, нечто, парящее расплывчато и неконкретно, без корней и формы, — антиподы творчества Уватова. Он не понимал и не принимал позднего Пикассо, а о поре Мейерхольда в театре говорил как о спиленном дереве, которое непонятно почему висит в воздухе.
Вот тут, на старой улочке, трудно было поверить, что это вовсе не улочка, а нечто абстрактное. Она конкретна — улица. Но почему тогда нужно внушать, что куб — это вовсе не куб: вот глаза, вот уши, а к тебе тянутся губы. Куб, он и есть куб. Человек, он тем и человек, что может сказать: «Я!» Куб — не скажет. Скамейка эта — не скажет. Искусство должно говорить образами. Весь модернизм, хоть в каком направлении искусства, разобьется об «Я!». Что подлинно, то и тревожит. Правда — в первооснове человеческого мироощущения. Выстоявшийся дух лучших традиций накоплен другими и передан им на вечное хранение. Современность нельзя оторвать и выстроить из ничего, ни на чем. Хоть бы она и кричала громким голосом ярко-красной каски мостостроителя или монтажным поясом на неком верзиле: вот, мол, какие мы, современники этого гомо сапиенс!

Тюменский писатель, лауреат премии Ленинского комсомола Л. Заворотчева известна широкому читателю как мастер очеркового жанра. Это первая книга рассказов о людях Сибири и Урала. Крепкая связь с прошлым и устремленность в будущее — вот два крыла, они держат в полете современника, делают понятными и близкими проблемы сегодняшнего дня.
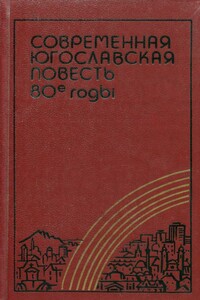
Вниманию читателей предлагаются произведения, созданные в последнее десятилетие и отражающие насущные проблемы жизни человека и общества. Писателей привлекает судьба человека в ее нравственном аспекте: здесь и философско-метафорическое осмысление преемственности культурно-исторического процесса (Милорад Павич — «Сны недолгой ночи»), и поиски счастья тремя поколениями «чудаков» (Йован Стрезовский — «Страх»), и воспоминания о военном отрочестве (Мариан Рожанц — «Любовь»), и отголоски войны, искалечившей судьбы людей (Жарко Команин — «Дыры»), и зарисовки из жизни современного городского человека (Звонимир Милчец — «В Загребе утром»), и проблемы одиночества стариков (Мухаммед Абдагич — «Долгой холодной зимой»). Представленные повести отличает определенная интеллектуализация, новое прочтение некоторых универсальных вопросов бытия, философичность и исповедальный лиризм повествования, тяготение к внутреннему монологу и ассоциативным построениям, а также подчеркнутая ироничность в жанровых зарисовках.

Действие романа писательницы из ГДР разворачивается на строительстве первой атомной электростанции в республике. Все производственные проблемы в романе увязываются с проблемами нравственными. В характере двух главных героев, Штробла и Шютца, писательнице удалось создать убедительный двуединый образ современного руководителя, способного решать сложнейшие производственные и человеческие задачи. В романе рассказывается также о дружбе советских и немецких специалистов, совместно строящих АЭС.
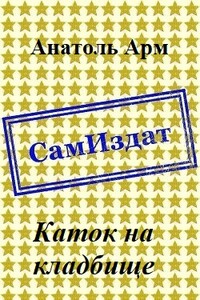
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
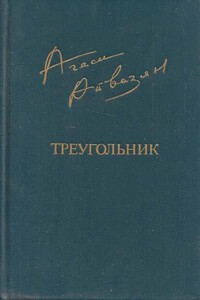
Наивные и лукавые, простодушные и себе на уме, праведные и грешные герои армянского писателя Агаси Айвазян. Судьбе одних посвящены повести и рассказы, о других сказано всего несколько слов. Но каждый из них, по Айвазяну (это одна из излюбленных мыслей писателя), — часть человечества, людского сообщества, основанного на доброте, справедливости и любви. Именно высокие человеческие чувства — то всеобщее, что объединяет людей. Не корысть, ненависть, эгоизм, индивидуализм, разъединяющие людей, а именно высокие человеческие чувства.
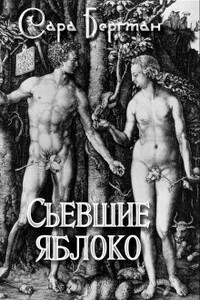
Роман о нужных детях. Или ненужных. О надежде и предреченности. О воспитании и всех нас: живых и существующих. О любви.

Неизвестные массовому читателю факты об участии военных специалистов в войнах 20-ого века за пределами СССР. Война Египта с Ливией, Ливии с Чадом, Анголы с ЮАР, афганская война, Ближний Восток. Терроризм и любовь. Страсть, предательство и равнодушие. Смертельная схватка добра и зла. Сюжет романа основан на реальных событиях. Фамилии некоторых персонажей изменены. «А если есть в вас страх, Что справедливости вы к ним, Сиротам-девушкам, не соблюдете, Возьмите в жены тех, Которые любимы вами, Будь то одна, иль две, иль три, или четыре.