Шутиха-Машутиха - [124]
— Ничего проще! Запомни, пригодится. — Пожевала пустым ртом, посерьезнела. — В леву руку берешь веретешко, — показала, как брать, — вот и прядешь с левой руки льняную нитку, протягиваешь ее от себя левой рукой через гребень петуха, потом нитку сложишь, и надо положить на то место, где грыжа, полежит она, и надо ее в три узла стянуть.
— И все? — удивился Арсений.
— Все! — гордо ответила Сверчушка. Что-то вспомнив, засмеялась, посверкивая глазами-бусинами, заприжимала щепотью губы, не желая показывать голые десны, чтоб Арсений, не дай бог, не нарисовал ее полоротой. — Северьянушко, царство небесное, пришел ко мне, когда паспорта колхозникам зачали выдавать. На голос: «Окороти руки Матрене!» Помнишь Матрену-то? — быстро спросила Арсения. — Ну вот. Она ведь кого хошь словами заплещет. А Северьяна бивала, чего не по ней — кочергой или скалкой, единова шайку из бани принес на голове — Матрена вздела, чего-то не по ней вышло там. А паспорта пошли — Матрена загрозилась: в город уеду! И осатанела. Ладно, говорю, Северьян, скажи Мотре, что ей в одно место, про которо она не знат, вязочка, которой покойнику руки связывают, вшита. И сказано при этом: «Как у покойника руки не подымаются, так и у тебя, Матрена, на Северьяна рука не поднимется!» И все, парень, окоротилась Матрена.
С веретешечком, петушиным гребнем да чертиком под мышкой завеселела навстречу людям раскрашенная гипсовая Сверчушка.
В деревне дом ее ослеп, балясины с крыльца отлетели, травкой-муравкой, птичьей травой конотопом взялась ограда, и никому не нужное черемуховое веретешко под лавку закатилось. Осталась Сверчушка у Арсения в мастерской и который раз словно подмигивает: «Что, немушко, не спится? Плюнь трижды через правое плечо, а сглазили, ошушукали — обвяжи себя ниткой с девятью узлами, тожно и успокоишься».
Не сразу понял Арсений, зачем Сбитнев в Москву его зовет, добыв две путевки на ВДНХ. Мол, так, старик, прошвырнуться. Да и к учителю Арсения, Прибыльскому, заглянуть можно. Арсений сказал, что рано, не с чем еще к учителю ехать, не готов он к разговору. Сбитнев засмеялся, хлопнул Арсения по плечу и сквозь смех обронил:
— Зато я готов!
Арсений опешил.
— А что? — невозмутимо продолжал Сбитнев. — Одно его слово — и я в зале Академии художеств. А ты… Я скажу, что ты вовсю работаешь, тебя ценят… — И осекся под взглядом Арсения. Тот смотрел на него с такой яростью, что Сбитнев замешкался, смешался, поиграв пальцами в воздухе, легко выдохнул: — Ну да, у вас свои отношения, я понимаю. Но ты не будь собакой на сене, к тому же не за свои бабки ехать.
Арсений начинал уставать от Сбитнева, и все чаще на проволочной болванке ему виделся человечек из гипса. Он уже жил движением лица, рук этого человечка среди безликих фигур, внимающим его речам. Но душа просила радости, и он ее находил, ваяя скульптурный портрет Александра Одоевского, полного достоинства, о котором теперь так мало сообщается, что неизвестно даже, откуда оно бралось раньше. Оно предполагалось как ипостась и состояние духа, было само собой разумеющимся, о чем не говорилось вслух. Как хотелось оказаться Арсению в ишимской глуши, побыть с Одоевским и услышать его спокойное, тихое размышление о том, что его незаписанные стихи вбирают лес, река, воздух, цветы и потом через них же стихи возвратятся к поэту. Быть может, думал Арсений, Одоевский бродил окрест деревни, где родился Арсений, и сидел на горе, с которой открывалась речка с черемуховыми зарослями, поля и тропинки, пьянел от нежности к дальним колкам и петляющей речке со стожками сена по ее берегам. Арсений смотрел на эту мало переменившуюся природу и наполнялся таинственным знанием того возврата, который полагал Одоевский во взаимоотношениях человека с природой, и благодарил поэта за щедрость, за понимание того, что природа — не декорация, приданная человеку в довесок.
На собрании Арсению и Саше Уватову руководство высказало пожелание активнее принимать участие в выставках, посвященных важным темам, связанным с современностью. Уватов огрызнулся, Арсений промолчал.
— Для баллов-то ты бы мог сделать, — важно журил его Сбитнев. — Чего ты боишься Севера? Слетал бы, там такие орлы! Да и подзаработал бы.
В самом деле, чего это все художники стремятся на Север? Ну чем там отличаются люди от его деревенских земляков или от чукотских оленеводов, к которым Арсений ездил в летние каникулы?
— Слушай, а правда, чего они там ищут, пробегая мимо того, что рядом, что несет свою невысказанность? — размышлял он, уединившись с Уватовым.
— Вот есть писатель, у него из книги в книгу кочует родовая чашка с отбитой ручкой. Понимаешь? А корней — нет. Мечутся. Что сверху лежит, то и хватают. Антиграждане. Будут охрой красить деревянную резьбу на памятниках деревянного зодчества — глазом не моргнут. А на Севере… Был я там. Но мои картины о Севере не нужны.
Да, их у Саши было немного. Но это был скелет тайги, обглоданной пожаром, с белым пятном вертолета над гарью. А еще — уходящий в малице и с современным рюкзаком за плечами хант. Стылые, с преобладанием багровых отсветов картины. Чернуха — по заключению выставкома, отвергшего такую современность.

Тюменский писатель, лауреат премии Ленинского комсомола Л. Заворотчева известна широкому читателю как мастер очеркового жанра. Это первая книга рассказов о людях Сибири и Урала. Крепкая связь с прошлым и устремленность в будущее — вот два крыла, они держат в полете современника, делают понятными и близкими проблемы сегодняшнего дня.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.

Каждый, кто любит собак, будет удивлён и очарован необычной философией собачника, который рассмотрел в верном звере не только друга и защитника, но и спасителя! Не спешите отрицать столь необычный ракурс, вникните в повествование, и возможно в своём четвероногом товарище вы увидите черты, ранее незамеченные, но чрезвычайно значимые для понимания поведения собаки.
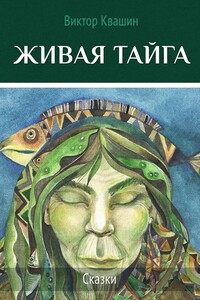
«Живая тайга» — сборник сказок, написанных по мотивам сказаний аборигенных народов. Бесхитростные, иногда наивные повествования увлекают читателя в глубины первозданной тайги и первобытных отношений с её обитателями. Действия героев, среди которых не только люди, но и природные объекты, основаны на невозможном в современном мире равноправии всего живого и удивляют трогательной справедливостью. Однако за внешней простотой скрываются глубокие смыслы древней мудрости.
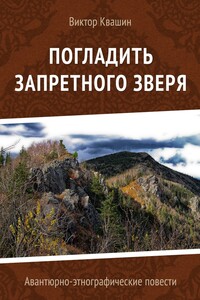
Есть люди, которые не верят на слово, им обязательно нужно потрогать загадку руками. Краевед Юрий Крошин из таких, и неудивительно, что он попадает в критические ситуации, когда пытается выведать то, о чём знать нельзя. Для народа, исповедующего Законы Тайги, «табу» означает не просто запрет что-либо делать. Нарушивший табу, нарушает священное равновесие между противоборствующими силами нашего мира. За такой грех полагается неминуемое наказание, и оно настигает преступника здесь и сейчас.

Мы до сих пор не знаем и малой доли того, какими помыслами жили наши первобытные предки. Герою этой книги удалось не только заглянуть в своё прошлое, но и принять в нём участие. Это кардинально повлияло на его судьбу и изменило мировоззрение, привело к поискам личных смыслов и способов решения экологических проблем. Книга наполнена глубокими философско-психологическими рассуждениями, которые, однако, не перегружают чтение захватывающего авантюрно-приключенческого повествования.
