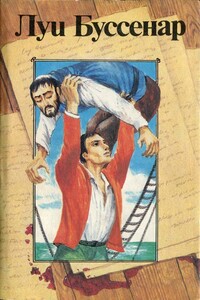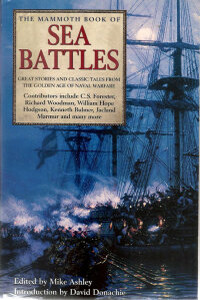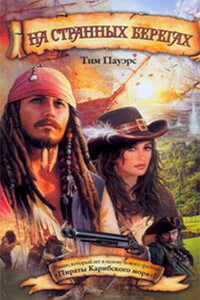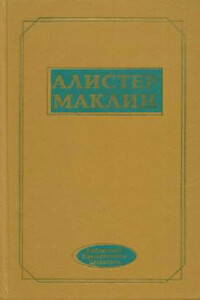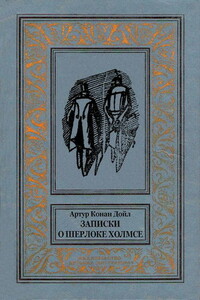Свет едва проникал в цокольное помещение через арку входа. Черные колонны уходили вверх, в непроглядный мрак, а по стенам острыми углами подымались марши железного трапа. Громоздкие машины, переплетенные трубами, оставляли не много места для столов и табуреток сапожников. Над моей головой вырисовывались сводчатые окна, забитые досками. Все это напоминало не то церковь, не то машинное отделение корабля. Вход на трап перегораживала решетка, запертая амбарным замком с сургучовой печатью.
Я рассказал Козубскому, что в детстве любил эту башню. Рассказал о двух рыцарях в шлемах и о светлых лицах часов. Он, казалось, не слушал, но мой рассказ пробудил его воспоминания.
Он говорил долго, кашлял и снова говорил. И я представил себе, как по этим черным колоннам с глухим журчанием подымалась вода. Ее гнали насосы — вот эти самые машины. Над ними, наверху, была небольшая комната. Окно приходилось вровень с вершинами деревьев, и птицы покачивались на резных листьях у самого подоконника. Маринка сыпала на подоконник крошки...
— Тогда никто не жалел хлебных крошек птицам, — неспешно, будто себе самому, рассказывал Козубский.
Потолок в комнатке железный, потому что он, собственно, не потолок, а днище огромного бака, занимающего все верхние этажи. Оттуда вода самотеком низвергалась вниз и разбегалась по всему городу — к кухонным кронам и уличным колонкам. Проходя мимо такой колонки, Козубский видел, как женщины в подоткнутых юбках уносят полные ведра воды, поднятой из Буга высоко над городом насосами башни.
...А потом Маринка выросла, поступила в институт и все-таки сыпала птицам крошки. Ну, а потом пришли вот эти. Не стало ни крошек, ни птиц, ни Маринки...
— А еще выше бака — башенка, и там — время! — Он приложил заскорузлый палец к губам, тонким и белым. — Время!
Двадцать девять лет Козубский ежедневно поднимался в башенку и заводил часы. Он делал это перед рассветом, когда спали даже птицы. Весь мир спал. Только гудела в трубах вода, и, как вода, шло время.
— А что, громко стучали часы?
Козубский посмотрел на меня с удивлением:
— То, молодой человек, не часы. То — время. Оно идет гулко, широко, как паровоз. Маятник, балансир, шестерни...
Он вдруг рассмеялся дробно-дробно и снова закашлялся, выталкивая воздух впалой грудью.
— Вы прислушайтесь! Оно и сейчас идет: ш-шаг — раз! Ш-шаг — два! Ш-шаг — раз...
Может быть, он помешался, этот Козубский, не старый еще человек, с лицом без возраста, как у заключенных в концлагерях?
— А если покрутить корбу, — продолжал он, — будет бой.
— Какой бой?
— Пружина разбита главная, а звоны — на месте. Можно вручную провернуть. Я пробовал раз в грозу.
— Да, жаль, что нельзя посмотреть часы, — сказал я, указывая на замок и печать.
— Почему нельзя? Вы думаете, они запечатали время? Если только не боитесь...
И тут он показал мне, что на одной из магистральных труб со стороны стены укреплены скобы, точно скобтрап на корабле.
Вначале я поднимался легко и быстро, как по боевой тревоге, потом медленнее. Я насчитал сто двадцать пять скоб, отдохнул и полез опять. Все выше, выше, в полной темноте. Наконец уткнулся головой в люк, поднял его. Сразу стало светло. Я находился в странном помещении. Вокруг были зубчатые колеса, рычаги. Свет падал через большие дыры в круглых окнах с четырех сторон. Я понял, что нахожусь внутри часов, а круглые окна — это и есть те светлые лица, что восхищали меня в детстве.
Осторожно выглянул через растерзанный пулеметной очередью циферблат. В теплом золоте сентябрьского вечера подо мной лежал город, и впервые в жизни я увидел подкову реки, всю излучину целиком. В сверкающем ее полукружии — бесчисленные крыши: красные, зеленые, черепичные. Я видел поезд на насыпи и шоссе в двойном обрамлении осенних лип. Я узнавал знакомые улицы, здания, перекрестки. И далеко-далеко за Бугом различил пять тополей старого моего дома.
И тут мне стало ясно, о чем говорил Козубский. Можно расстрелять из пулемета часы, можно расстрелять сто, тысячу, десять тысяч человек, но время расстрелять нельзя. Оно идет, как паровоз, — неудержимо, спокойно, гулко...
Ветер принес из детства старую песенку:
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка...
Вот именно. Винтовка. Винтовка и время. Больше ничего.
3
Прошел сентябрь — лучший месяц в наших краях, когда солнце греет не жарко, а добрая осенняя зрелость сияет в садах и парках. В это время город бывал полон фруктами, но теперь фрукты то ли не уродились, то ли их меньше привозили. Зато богато уродились каштаны. Эти лакированные драгоценности в зеленых коробочках с шипами всегда привлекали только ребят. Сейчас каштаны собирали взрослые. Несъедобный конский каштан стал пищей. Горькая мука из каштанов была не хуже тех отрубей с опилками, из которых выпекали хлеб для населения. А сельскохозяйственный комиссариат господина Велле ежедневно отправлял в Германию и передавал воинским частям вагоны пшеницы, бочки масла, грузовики мясных туш.
По этим делам мне приходилось бывать в интендантстве. Там я встретил корветен-капитана Вегнера.
Поверх рукавов его морской тужурки, как у бухгалтера, были натянуты нарукавники.