Штемпель - Москва. 13 писем в провинцию - [2]
Уберечь жизнь, запрятанную меж височных костей, от жизни, клубящейся вокруг тебя, думать вдоль улицы, не видя улицы, невозможно. Как ни концентрировал я свои образы, как ни оберегал мысли от толчков извне, это оказалось немыслимым. Улица навязчива: она протискивается и под опущенные веки, топчется грубо и назойливо на моих барабанных перепонках, прощупывается булыжником сквозь мои протертые подошвы. От улицы можно свернуть, бежать только в переулок, от переулка - в тупик. И опять сначала. Город лязгами, шорохами, разорванными на буквы словами бьет по мозгу, назойливо лезет в голову, пока не набьет ее, по самое темя, клочьями и пестрядью своих мельканий.
Во мне, безусловно, есть какая-то пассивность. Вначале я сопротивлялся. Потом перестал: впустил город в себя. Когда я шел, отстукивая пунктир шагов поверх длинных линий улиц, то иногда чувствовал, как пунктир этот стягивается в линию, слиянную с линией улиц. Иногда, остановившись на безлюдном перекрестке, я ясно слышал гулкое биение Москвы у себя меж висков. А то, бывало, странно: идешь, частя шаги, из переулка в переулок и в момент крутой остановки мысли, оглядевшись, вдруг видишь себя внутри каменного тупикового мешка с малыми, задернутыми занавесками окнами и с кривыми фонарями вдоль тротуаров. Да, не раз с известной радостью примечал я, как линии мысли совпадают с линиями, исчертившими город: поворот на поворот, излом на излом, выгиб на выгиб: с точностью геометрического наложения.
Понемногу я стал втягиваться в эту игру души с пространством: вечерами я любил размеренно шагать вдоль ряда фонарей, оглядываясь на ползущую позади меня тень. Дойдя до фонарного столба, я задерживал на миг шаги и знал, что тут наступит момент, когда тень вдруг, неслышно ступая, обгонит меня и, странно дергаясь, пойдет впереди под углом в 90° ко мне. А то, зевая по сторонам, я следил за правильным нарастанием слева и справа белых по синему цифр: 1-3-5-7... и 2-4-6-8... Ну, я слишком расписался. Так, пожалуй, и две марки не вытянут.
Развернул план Москвы. Сейчас думаю покорпеть над этим круглым, как штемпель, пестрым, расползшимся крашеными леторослями пятном: нет, ему не уползти от меня. Я таки возьму его в железный обвод.
Письмо второе
Вот странность: стоило сунуть раз в желтый ящик письмо, и теперь, куда ни пойдешь, всюду выпятившиеся чуть ли не с каждой стены жестяные коробы. Коробы раскрыли черные узкие квадратные рты и ждут: еще. Что ж, еще так еще. Кстати, какие несчетные груды слов сливает Москва ежедневно внутрь этих коробов. В восемь утра и в пять перед вечером холщовые ящики со словами, наваленные один поверх другого, трясутся на почтовой телеге, затем Москва бьет по словам штемпелями и бросает их по радиусам врозь: всем всем - всем. Так и с моей горстью. Пусть.
В первые мои московские дни я чувствовал себя внутри хаотичного кружения слов. Взбесившийся алфавит ползал вокруг меня по афишным столбам, по стенным плакатам, по крашеной жести, торчал из папок газетчиков, терся об уши концами и началами слов. Огромные черные - красные - синие буквы плясали вокруг глаз, дразнили их издали с висящих поперек улицы качаемых ветром холстов. Я шел сначала с притянутыми, затем с устало одергивающимися зрачками, среди сумятицы букв, стараясь глядеть мимо и сквозь: но они, нагло задирая веки, лезли под ресницы еще и еще непрерывным потоком бликов и клякс. К ночи, когда я, щелкнув штепселем, пробовал спрятать глаза под веки, буквенная раздробь, ворошась в глазах, не хотела заснуть и, выползая пестрыми каракулями на белую наволочку, долго еще дергалась у самых глаз, цепляясь за ресницы и не давая им смежиться.
Любопытно, что мои первые московские кошмары с их бесшумно рушащимися на меня домами, с напряженной до смертной истомы спешкой по спутанным улицам, неизменно приводящим снова и снова - всё к одному и тому же кривому перекрестку, с тупой тоской глухих и мертвых переулков, то подводящих, близко-близко к сиянию и гулу большой и людной площади, то вдруг круто поворачивающих назад в молчь и мертвь, - все эти кошмары, повторяю, в сущности, и были моими первыми сонными ощупями Москвы, первыми, пусть нелепыми и бессознательными, попытками охвата, синтеза.
Примечательно, что выводы моей яви, по существу, не спорили с черной логикой кошмара. Вначале и самая солнечная, самая дневная явь, в "я" вошедшая, оставляла то чувство, какое бывает, когда сойдешь с быстро откружившейся карусели и видишь, как вокруг - деревья, тучи, кирпичи тротуара и люди продолжают плыть и кружить по какой-то кривой. Я часто доверял себя трамваям А, Б, и особенно В, кружащему по длинному колеблющемуся радиусу (странное совпадение): мимо меня мчались вывески с убегающими на них буквами, мелькали люди, расшагавшиеся вдоль скользких тротуарных лент, дребезжащие обода телег и пролеток; на окраинных пустынных площадях, мимо разлетевшейся, звонко лязгающей по параллелям рельс буквы "В" проплывали линялые от дождей, иногда вращающиеся, чаще устало-неподвижные цилиндры каруселей. Оглядываясь на них, я думал: вот тут.
Четко памятен мне ободранный афишный столб - где-то, кажется, на Хапиловке, что ли, - слова поверх слов: налипнув грязной и пестрой рванью, они обвисли с железа нелепыми пластами. Я уперся ладонями в полуистлевшие буквы, и карусель слов, ржаво скрипя, сделала пол-оборота. Иногда и я, намучившись до смерти, с обвисшими вялыми веками, шел, не глядя на людей, лишь чувствуя локти, цепляющие о мои локти. Все, что я видел тогда движущиеся то тупые, то острые, то под лаком, то под заплатами башмачные носы: шаркая по асфальту, спотыкаясь о выступы развороченных кирпичей, носы методически шли и стучали с таким безразличием и механичностью, что, если б от башмаков до глаз не было пять-шесть футов, а... и, вздернув голову кверху, я с удивлением видел не лица и не глаза, а пестрые скаты кровель, меж кровель - голубоватый, цвета стираного ситцу, воздух - весь в белых облачных пятнах. Однажды я зашел в пивнушу "Фазис", что на Неглинном (и ведь куда забрело слово!): человек, смахнувший гороховую шелуху со столика ("Бутылочку?"), глянул мне под поля шляпы так, что я не сразу решился повернуться к зеркалу: а вдруг под полями вместо лица - пустое место.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своих повестях «Крыло тишины» и «Доверчивая земля» известный белорусский писатель Янка Сипаков рассказывает о тружениках деревни, о тех значительных переменах, которые произошли за последние годы на белорусской земле, показывает, как выросло благосостояние людей, как обогатился их духовный мир.
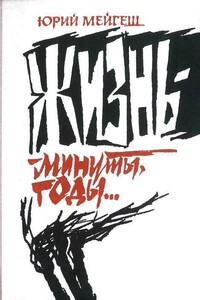
Юрий Мейгеш живет в Закарпатье. Его творчество давно известно всесоюзному читателю. Издательство «Советский писатель» выпустило в переводе на русский язык его книги «Верховинцы» (1969) и «Каменный идол» (1973). Тема любви, дружбы, человеческого достоинства, ответственности за свои слова и поступки — ведущая в творчестве писателя. В новых повестях «Жизнь — минуты, годы...» и «Сегодня и всегда», составивших эту книгу, Ю. Мейгеш остается верен ей.
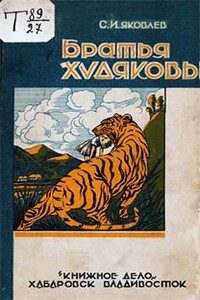
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу известного молдавского поэта и прозаика Николае Есиненку вошли три небольшие повести и цикл рассказов. Заглавная повесть сборника «Деревянная пушка» посвящена военной теме: беспомощный старик и его невестка, оказавшиеся в гуще военных событий, вступают в неравную схватку с врагом и — побеждают. О переменах, происходящих в общественной жизни, в духовном мире нашего современника, повествуется в рассказах, представленных в книге.

Две повести и рассказы, составившие новую книгу Леонида Комарова, являются как бы единым повествованием о нашем времени, о людях одного поколения. Описывая жизнь уральских машиностроителей, автор достоверно и ярко рисует быт и нравы заводского поселка, характеры людей, заставляет читателя пристально вглядеться в события послевоенных лет.

В романе А. Савеличева «Забереги» изображены события военного времени, нелегкий труд в тылу. Автор рассказывает о вологодской деревне в те тяжелые годы, о беженцах из Карелии и Белоруссии, нашедших надежный приют у русских крестьян.