Школа жизни великого юмориста - [58]
— Все басни Ивана Андреевича я готов отдать за одну, — проговорил он, — про общего нашего друга-приятеля — змею подколодную.
— Это про Булгарина? — тихонько спросил Гоголь сидевшего около него Плетнева.
— А то про кого же? — отозвался Плетнев. — Вы знаете ведь басню «Крестьянин и Змея?»
— Господь уж с ним! — миролюбиво вступился Жуковский. — Ты сам, Александр Федорович, усадил его в Желтый Дом[39], ну, и пускай сидит себе там.
— Да ведь и тебе, Василий Андреевич, отведен там особый покой, — сказал Пушкин. — Так не лучше ли всех вас оттуда временно выпустить — на людей поглядеть и себя показать? Александр Федорович! Покажите-ка нам, право, опять всех ваших постояльцев.
К просьбе Пушкина присоединились и другие. Сделавшись предметом общего внимания, старый свето-ненавистник приосанился и с язвительной усмешкой сказал наизусть целый ряд куплетов из своей бесконечно длинной сатиры «Дом сумасшедших». Гоголь слышал ее в первый раз и потому заслушался уже с самого вступления автора в «Желтый дом».
Кого-кого желчный сатирик не усадил в свой «Желтый дом»! Когда в числе его жильцов оказался и Жуковский, Гоголь, вместе с другими, невольно взглянул на хозяина-поэта; но тот, как ни в чем не бывало, благодушно только улыбался. Из других помешанных наиболее заинтересовали Гоголя Свиньин, Греч и Бул-гарин.
В заключение сатиры, автор готов был бежать без оглядки из «Желтого дома», но смотритель дома удерживает его и читает ему указ:
Хотя все присутствующие, за исключением одного лишь Гоголя, знали уже сатиру Воейкова, но, по-видимому, выслушали ее не без удовольствия и, вслед за Жуковским, довольно дружно захлопали в ладоши.
— А ты, мой Гнедко, чего надулся? Или обижен, что тебя тоже забыли? — заметил Жуковский Гнедичу, который едва ли не один из всех с явным неодобрением относился к хлестким стихам сатирика.
Как уже известно было Гоголю, Гнедич, подобно Крылову, служил библиотекарем в Императорской Публичной библиотеке, подобно ему, пользовался там казенной квартирой и жил бобылем. Видаясь изо дня в день, они, несмотря на разность лет, состояли в дружеских отношениях и должны бы были, кажется, невольно перенять один от другого некоторые привычки. Между тем трудно было встретить двух людей более противоположных. Крылов был олицетворением славянской стихийной натуры — простой, неряшливой и ленивой. Гнедич, напротив, был чопорный европеец, завивал волосы, одевался по моде и держал себя так, будто считал себя Адонисом, тогда как в действительности лицо его изрытое оспою, было нимало не привлекательно. Даже в горячем споре он сохранял свою величавость, самые простые вещи говорил как бы гекзаметрами и слегка в нос, точно по-французски, причем охотно также украшал свою речь французскими фразами, которые, впрочем, не всегда согласовались с правилами французской грамматики.
— C'est simplement triviale, — прогнусил в ответ Гнедич, — се ne sont pas des figures, mais, comme disent les Francais, ce sont des figurlettes[40].
— Однако и наш Иван Андреевич выводит в своих баснях своего рода фигюрлеток, — улыбнулся Жуковский, — вместо Сидора да Карпа у него выступают самые подлые твари, а Сидор да Карп тотчас узнают себя.
— Quod licet Jovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку.
— Вы это, Николай Иванович, на чей счет? — огрызнулся тут из своего угла Воейков.
Жуковский, в качестве хозяина, поспешил вступиться посредником:
— Bos, bovis, в просторечии бык — общесобирательное имя средней руки поэтов, представителем коих являюсь я, бык по преимуществу, так и именуемый в ковчеге Арзамаса Бычком, тогда как наш поэт Слон и по вашему собственному «Парнасскому адрес-календарю» есть «действительный поэт 1-го класса и входит к его парнасскому величеству без доклада».
— Музу свою вообще посвящая низким предметам, Слон наш с бессмертными также беседу ведет на Парнасе! — с важностью добавил от себя Гнедич.
— Не по-гречески ли, как ваша милость? — колко отозвался Воейков.
— Именно так! Он не меньший знаток древней эллинской речи, чем слуга ваш покорный.
— Вот на! С каких это пор?
— Да неужто ты об этом еще не слышал, Александр Федорович? — спросил Жуковский. — Единственный, можно сказать, пример, что труднейшему языку ленивейший человек в подлунном мире научился на старости лет. Расскажи-ка, Николай Иванович, как это было.
— Было то вот как, — начал Гнедич, самодовольно озираясь и оправляя на шее толстый модный шарф, видимо, сдавливавший ему голосовые связки. — Однажды, едва я поднялся с постели, слышу за дверью слоновую поступь соседа — живем мы ведь с ним на одном коридоре. «Что бы то значило? — думаю. — Верно, по самонужнейшему делу!» И точно. «Так и так, — говорит, — был я вечор у Орлова. Стал он меня подбивать по-гречески вместе учиться; прибыл такой, мол, француз из Парижа, что в короткое время берется и стариков обучить этой мудрости. Как ты рассудишь, дружище?» — «Как рассужу? — говорю, а сам усмехаюсь: стоит предо мной мой Иван Андреевич в туфлях на босу ногу, в шлафоре — грудь нараспашку. — Ты и теперь уж в классической тоге, в сандалиях. Ступай! И передеваться не нужно». — «Будто я так уж ленив?» — «Воплощенная лень, брат! Я бы на месте твоем купил себе греческий Новый Завет да в ящик ночного стола положил бы: авось и собрался бы раз почитать на досуге». — «Гм», — промычал он в ответ, повернулся и вышел. Как-то потом заглянуть мне случилось в ночной его столик. Так ведь и есть! Лежит там евангелие с греческим текстом: только сверху-то пыли чуть не на палец. «Что, cher ami, — говорю, — греки не свой брат?» — «Да, — говорит, — хотел поучиться, да лень раньше нас родилася». Так вот проходит два года. Позвал нас обедать Оленин. После обеда хозяин с Иваном Андреичем скрылись, — верно, в объятья к Морфею, думаю; сам заболтался с хозяйкой. Глядь, к нам Барюша и Петя — хозяйские дети — Ивана Андреича под руки тащат, а следом за ним Алексей Николаич, да три фолианта под мышкой. «Вот вы, Иван Андреевич, спорили все, что???? имеет одно лишь значение: „пасу“, а вот у Гомера и Ксенофонта нашел я другое значение еще: „разделяю“. — „Дайте взглянуть“, — говорит мой Иван Андреич. И что же? Представьте, берет „Илиаду“ и, как ни в чем не бывало, читает себе, переводит по-русски. „Э! — говорю, — не обманешь. И сам я по-английски раз страницу вызубрил, чтобы друзей провести. А на, прочитай-ка из этой вот песни. Взял он, читает опять, переводит. „Нет, брат, пустое! Не верю. У вас, Алексей Николаич, есть тут, я вижу, еще Ксенофонт; на нем-то уж верно запнется“. Ан не запнулся ведь! „Ну, — говорю, — Иван Андреевич! Было в древности семь чудес, а ты уж восьмое! Как это, братец, скажи, ты в эллина вдруг превратился?“ — „А ведь не боги ж, — в ответ он, — горшки обжигают. Каждую ночь до четвертого часа читал я в постели; ради мелкой печати очками еще обзавелся. Ну, а теперь все едино, что по-гречески мне, что по-русски“.

За все тысячелетие существования России только однажды - в первой половине XVIII века - выделился небольшой период времени, когда государственная власть была в немецких руках. Этому периоду посвящены повести: "Бироновщина" и "Два регентства".
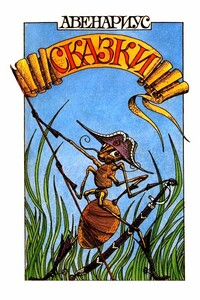
Две оригинальные сказки, которые вошли в этот сборник, - «Что комната говорит» и «Сказка о пчеле Мохнатке» - были удостоены первой премии Фребелевского Общества, названного в честь известного немецкого педагога Фребеля.В «Сказке о муравье-богатыре» и «Сказке о пчеле Мохнатке» автор в живой, увлекательной для ребенка форме рассказывает о полной опасности и приключений жизни этих насекомых.В третьей сказке, «Что комната говорит», Авенариус объясняет маленькому читателю, как и из чего делаются предметы в комнате.

"Здесь будет город заложен!" — до этой исторической фразы Петра I было еще далеко: надо было победить в войне шведов, продвинуть границу России до Балтики… Этим событиям и посвящена историко-приключенческая повесть В. П. Авенариуса, открывающая второй том его Собрания сочинений. Здесь также помещена историческая дилогия "Под немецким ярмом", состоящая из романов «Бироновщина» и "Два регентства". В них повествуется о недолгом правлении временщика герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.
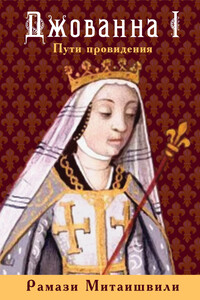
Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
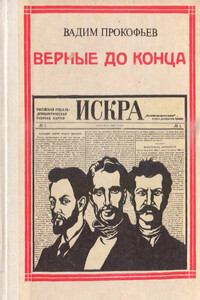
В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
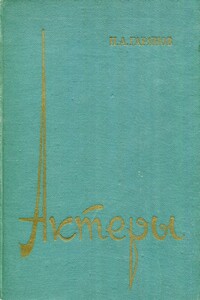
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.
