Шестнадцать процентов - [6]
Тут я приметил Забродина, он все еще не ушел. Я наполнил водкой два фужера и подошел к нему:
— Давайте выпьем, Филипп Иваныч!
— Ого! — Забродин ухмыльнулся. — Московская норма! Мне не потянуть.
Он-то потянул, а для меня это оказалось чересчур. Но я хотел ударить себя по мозгам, чтобы вырваться из плена мертвых слов, уже начавших опутывать меня, словно липкая паутина. Все вокруг обрело призрачность, текучесть, лишь одно сохранило материальность, недвижную прочность в этом зыбком мире: большое, спокойное, с капельками пота на лбу и верхней губе лицо Забродина. И я сказал в это лицо:
— Что же вас так?..
Лицо улыбнулось, удивленно, застенчиво и безмятежно.
— Как вы только терпите?
К лицу поднялась рука и стерла капельки пота со лба, затем под носом.
— Вы же дали на шестнадцать процентов больше Придорожного!
— Да, больше. И что же из этого? — Светлые редкие брови приподнялись, сообщив лицу что-то недоуменно-детское.
— Значит, наградить должны были вас, а не его!
Брови опустились, рот чопорно поджался, и легкая тень упала со лба на нижнюю часть лица, ставшего государственным.
— Меня нельзя награждать, дорогой товарищ!
— Это почему же?
— Я оставался на оккупированной территории.
Вернувшись в Москву, я написал очерк о Василии Придорожном и нарочито грубо, неуклюже-вызывающе вставил абзац о Забродине, сводящий на нет все восторги, расточаемые Придорожному.
Материал подписал в набор наш заведующий отделом, как всегда, без единой поправки или замечания. Впрочем, он никогда не менял ни слова в наших материалах, и не потому, что был так широк и свободен во взглядах, — просто он считал все слова равно крамольными и непригодными для печати. Будь его воля, он не пропустил бы в печать даже алфавита. В самом виде печатной буквы чудилось ему нечто греховное и опасное. Но ведь печатались не то что алфавиты, а газеты, журналы, книги, и потому он раз и навсегда решил ни во что не вмешиваться и смиренно ожидать уготованную ему Голгофу. Иное дело редактор, — от его глаз, упрятанных за толстенными стеклами очков, не могли укрыться даже тончайшие, незримые журналистские огрехи.
Когда из типографии принесли гранки, меня вызвали к редактору.
— Вы явно идете на поправку, — сказал он, потрясая длинными, чуть влажными полосками бумаги. — Поэзия ручного труда — что и требовалось!.. Но есть вопросы. Вы тщательно проверили цифры? Неужели Придорожный дал ровно тысячу процентов? Так не бывает…
— А тысяча и два, тысяча и три бывает? — Я брал разбег для предстоящего спора. — Тысяча — такая же цифра, как и всякая другая.
— Значит, тут нет ошибки, — сказал он спокойно. — Далее, почему вы не называете шахтеров, овладевших методом Придорожного?
— Могу назвать сколько угодно…
— Достаточно пяти-шести фамилий. Все! — Он протянул мне гранки. — Кру-гом, ать-два!..
Это была шутка, придуманная специально для военных корреспондентов. Шутка добрая, она означала, что редактор нами доволен. Но я не двигался с места. Пораженный его странной невнимательностью, я перебирал гранки. На последней бумажной полоске я увидел знакомый кроваво-красный редакторский карандаш: абзац о Забродине был тщательно вымаран.
— Вас не удивило, что Забродин дал больше Придорожного? — спросил я.
— Что такое? — недовольно проговорил редактор, он уже перенесся душевно к другой заботе, и ему неприятно было, что я тащу его назад.
— Рекорд-то установлен Забродиным, а наградили Придорожного, — сказал я.
— А! Ну да. Я вычеркнул этот абзац. Путаница. Лишнее.
— Вы знаете, почему Забродина обошли наградой?
— Ну?..
— Потому что он оставался на оккупированной территории.
— По правде говоря, я так и подумал, — редактор чуть улыбнулся.
Я не сомневался, что он действительно это подумал. Потому-то и был он редактором, а не заведующим отделом и не разъездным корреспондентом.
Горячо, но внятно я рассказал ему, как очутился Забродин на оккупированной территории, как вел себя при фашистах, каким уважением окружено его имя в шахтерской среде; упомянул и о том, что лишь приход Красной Армии спас Забродина и его товарищей от смертной казни.
— К чему весь этот пафос? — будто издалека спросил редактор.
— А к тому, что именно Забродин — настоящий герой нынешнего Донбасса, и это подло, что его обошли!
— Почему же в таком случае вы написали не о нем?
— Потому что он был на оккупированной территории, — ответил я машинально.
Редактор засмеялся каким-то неокрашенным механическим смехом, будто с усилием выталкивал воздух из груди. Конечно, я тут же поправился. Я сказал, что написал свой очерк с единственной целью вызвать в нем, редакторе, возмущение совершенной несправедливостью. Я намерен переписать очерк и, не унижая Придорожного, защитить права Забродина. Нельзя допустить, чтобы пустой набор слов, лишенных живого человеческого содержания, глупое и позорное словесное клеймо уродовало судьбу человека. Это, право же, не менее важно, чем поэзия обушка…
— Ну ладно, — устало сказал редактор. — Либо вы непозволительно наивны, либо… контузия не прошла бесследно. Продолжайте лечиться и поменьше болтайте. Иначе газета окажется не главной среди ваших потерь. Вы поняли меня?
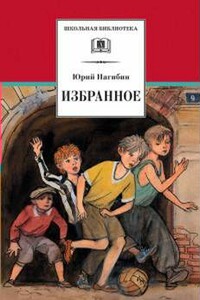
Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.
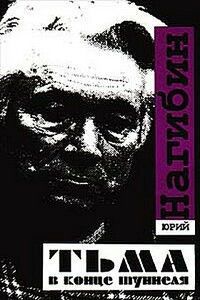
В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.
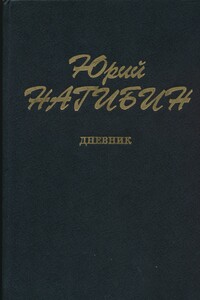
В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.
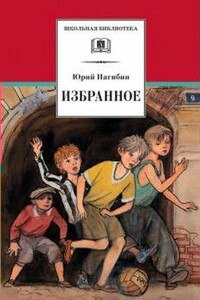
Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.
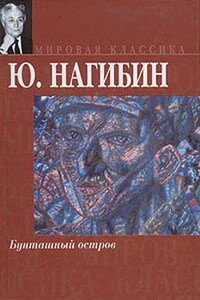
Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».
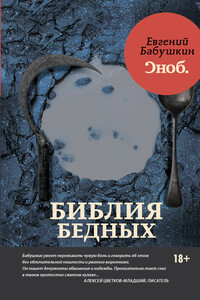
О чем шушукаются беженцы? Как в Сочи варят суп из воробья? Какое мороженое едят миллиардеры? Как это началось и когда закончится? В «Библии бедных» литература точна, как журналистика, а журналистика красива, как литература. «Новый завет» – репортажи из самых опасных и необычных мест. «Ветхий завет» – поэтичные рассказы про зубодробительную повседневность. «Апокрифы» – наша история, вывернутая наизнанку.Евгений Бабушкин – лауреат премии «Дебют» и премии Горчева, самый многообещающий рассказчик своего поколения – написал первую книгу.

Последние два романа Александра Лыскова – «Красный закат в конце июня» (2014 г.) и «Медленный фокстрот в сельском клубе» (2016 г.) – составили своеобразную дилогию. «Старое вино «Легенды Архары» завершает цикл.Вот что говорит автор о своей новой книге: «После долгого отсутствия приезжаешь в родной город и видишь – знакомым в нём осталось лишь название, как на пустой конфетной обёртке…Архангельск…Я жил в нём, когда говорилось кратко: Архара…Тот город навсегда ушёл в историю. И чем дальше погружался он в пучину лет, тем ярче становились мои воспоминания о нём…Бойкая Архара живёт в моём сердце.

Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как ее чаще называют сами хламы – Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окруженные со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного колодца, выбраться из которого невозможно, – настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают…
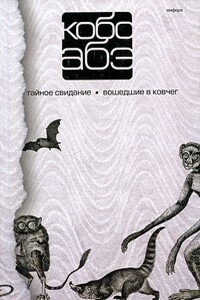
В третьем томе четырехтомного собрания сочинений японского писателя Кобо Абэ представлены глубоко психологичный роман о трагедии человека в мире зла «Тайное свидание» (1977) и роман «Вошедшие в ковчег» (1984), в котором писатель в гротескной форме повествует о судьбах человечества, стоящего на пороге ядерной или экологической катастрофы.
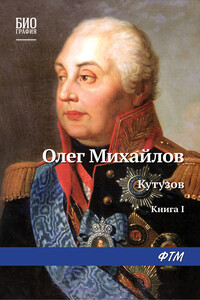
Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
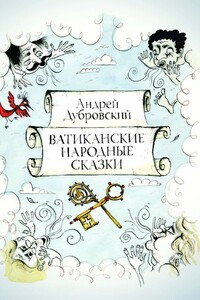
Книга «Ватиканские народные сказки» является попыткой продолжения литературной традиции Эдварда Лира, Льюиса Кэрролла, Даниила Хармса. Сказки – всецело плод фантазии автора.Шутка – это тот основной инструмент, с помощью которого автор обрабатывает свой материал. Действие происходит в условном «хронотопе» сказки, или, иначе говоря, нигде и никогда. Обширная Ватиканская держава призрачна: у неё есть центр (Ватикан) и сплошная периферия, будь то глухой лес, бескрайние прерии, неприступные горы – не важно, – где и разворачивается сюжет очередной сказки, куда отправляются совершать свои подвиги ватиканские герои, и откуда приходят герои антиватиканские.