Шесть великих идей - [4]
Откуда столько пренебрежительного пафоса у людей, отзывающихся о «всего лишь» платоновской идее? Дело в том, что мы просто не готовы воспринять платоновское учение, которое едва ли можно считать слишком доступным для понимания. Более того — если кто-то начинает анализировать тексты Платона, то находит его учение абсолютно чуждым и общепринятому здравому смыслу, и собственному представлению о сути вещей. Но при этом нельзя относить платоновское учение к всецело ошибочным. Из двух его основных положений одно следует признать справедливым, а другое — неверным.
Начнем с того, которое оказалось неверным. По учению Платона, существует не один, а два мира: ощущаемый мир непостоянных материальных вещей, воспринимаемых нами посредством органов чувств, и мир умопостигаемых, или интеллигибельных, предметов, осознаваемых нами с помощью сознания и разума. Для древнегреческого философа оба мира были реальными, то есть их бытие полагалось независимым от нашего восприятия.
Мир чувственных вещей все равно оставался бы на своем месте даже при условии, что на Земле не было бы ни человека, ни любого другого существа, наделенного глазами, ушами и остальными органами чувств. А такие понятия, как истина, добро, справедливость и свобода, наличествовали бы в любом случае — независимо от присутствия или отсутствия человеческого сознания, даже если на Земле не осталось бы ни одного живого существа, способного задумываться о подобных интеллигибельных предметах. Поэтому, согласно Платону, идеи добра или справедливости являются абсолютно подлинными сущностями, то есть вполне реальными.
Однако Платон на этом не останавливается. Он считает царство идей не просто реальным, а даже более подлинным, чем мир физических, проходящих, возникающих и исчезающих, так или иначе меняющихся вещей, воспринимаемых нами при помощи органов чувств. В предметах чувственного мира нет постоянства. С идеями все обстоит иначе: безусловно, мы можем менять свое представление об интеллигибельных вещах, но они тем не менее остаются неизменными. Идеи в отличие от живых организмов не рождаются и не умирают. Не перемещаются в пространстве, как звезды и атомы. В отличие от окружающих нас обычных материальных вещей — не нагреваются и не остывают, не увеличиваются и не уменьшаются. И так до бесконечности.
Таким образом, изменчивый предметный мир представляет собой не более чем тень мира идей — гораздо более подлинного. Переходя от чувственного опыта к интеллектуальной сфере, человек поднимается в высшую реальность, поскольку он обращается от вещей, не имеющих устойчивого бытия, к неизменным и тождественным самим себе (по Платону, «вечным») мыслительным сущностям, то есть идеям.
Тем из нас, кто не может стряхнуть оковы здравого смысла, может показаться, что Платон заходит слишком далеко, когда приписывает реальность миру идей, и еще дальше, когда возносит подлинность этих идеальных сущностей над подлинностью чувственных явлений. Мы отвергаем без всяких колебаний платоновское учение об идеях и заявляем, что выводы философа явно ошибочны. Для нас, практичных и благоразумных, именно идеальный мир есть царство теней, он представляет собой лишь отражение осязаемых, видимых и слышимых предметов — того материального мира, в плену которого мы все пребываем.
На самом деле мы тоже можем переусердствовать, отказывая идеям хоть в какой-то подлинности или признавая их существование исключительно в собственном сознании — и то лишь во время мыслительного процесса. Подобное отношение превращает любую идею в абсолютно субъективное понятие. Ровно такое же субъективное, как ощущение боли, когда вы, скажем, прищемите палец. Вы жалуетесь мне на больной зуб, но то, что вы чувствуете, — ваше субъективное восприятие, и я не могу испытать ту же боль, потому что в данный момент она ваша и только ваша.
Учение Платона отнюдь не ошибочно. Он был прав, рассматривая идеи как умопостигаемые, или интеллигибельные, предметы, осознаваемые человеческим разумом. Он был прав, утверждая, что они принадлежат объективной реальности. Это платоновское положение объясняется самым простым образом: вы и я способны обсуждать одну и ту же идею, потому что она является предметом и ваших, и моих мыслей — точно так же, как мы с вами говорим об одном и том же пальто, пока вы помогаете мне его надевать и спрашиваете, достаточно ли оно теплое. Когда мы вдвоем беседуем об истине или правосудии, то эти идеи предстают перед нашим умственным взором и поселяются в нашем сознании вроде того пальто, которое вы помогли мне надеть.
Вероятно, могут возникнуть некоторые проблемы с толкованием, поскольку у слова идея есть два значения: в первом оно употребляется как нечто абсолютно субъективное, во втором — как что-то довольно объективное.
В первом, широком смысле идея означает неограниченный ряд сущностей, составляющих содержание человеческого сознания, — это наши озарения и впечатления; представляемые нами образы; вызываемые нами воспоминания; понятия и суждения, которые мы используем в процессе мышления.
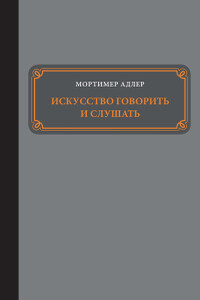
Задумываемся ли мы над тем, как говорим и общаемся? Понимаем ли окружающих, умеем слушать? Владеем ли мы мастерством правильно мыслить или охвачены «искусством пустословия»? Каждый человек найдёт в книге для себя много интересного.
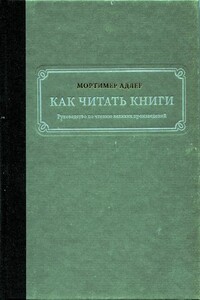
Почему одни находят какую-либо книгу весьма глубокой, другие — пустой, третьи — заумной? Почему, перечитывая книгу, вы каждый раз обнаруживаете что-то не замеченное ранее? Почему кто-то понимает все оттенки смысла, видит сокрытое между строк, слышит музыку слов, чувствует их вкус, цвет и запах, а кто-то остается глух к ним? Почему кто-то с первого раза воспринимает содержимое учебника, а кому-то нужно многократно его объяснять?Чтобы настроиться на «волну» автора и понимать больше, требуется умение читать активно.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.
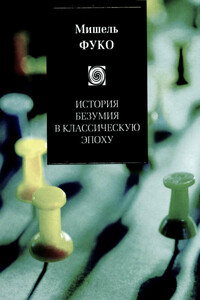
Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.