Шеллинг - [9]
Все началось с того, что философ Якоби опубликовал содержание своей беседы с недавно скончавшимся Лессингом, в которой последний признался ему в своей приверженности к спинозизму. Против этого возражал Мендельсон: спинозизм был синонимом атеизма. Гердер, однако, полагал, что учение Спинозы можно совместить с религией. Вскоре о Лессинге забыли и спорили о природе сущего, о возможностях его рационального познания. Участие в полемике принял Кант, в нее были вовлечены Гёте, Форстер и многие другие. Интерес Шеллинга к Спинозе явно восходит к этому спору. О том, что Шеллинг был в курсе дела, свидетельствует хотя бы фраза из того письма к Гегелю, что мы только что цитировали: «Ортодоксальные понятия о божестве не существуют больше для нас». Именно так, по свидетельству Якоби, выразился Лессинг, открываясь ему в своих симпатиях к голландскому еретику.
Кант и Спиноза — главные действующие лица в той духовной драме, которую придется пережить герою нашей книги. Пока он создает пролог-трактат «Я как принцип философии, или Безусловное в человеческом знании». Уже в первых абзацах введения к этой работе встречаются имена Спинозы и Канта. А о Фихте, странным образом, ни слова на протяжении всего произведения.
Этому обстоятельству удивлялись. Прежде всего сам Фихте. «Сочинение Шеллинга, в какой мере я смог его прочитать, представляет собой целиком комментарий к моему, — говорится в одном из его писем. — Почему он об этом молчит, я не совсем понимаю… Смею полагать, он не хочет, чтобы его ошибки, в том случае, если он меня неправильно понял, были отнесены на мой счет, мне кажется, что он меня боится».
Философские книги рекомендуется читать внимательно. Шеллинг пользуется фихтевской терминологией: «Я» означает для него абсолютный субъект, «не-Я» — объект, «Начало и конец любой философии — свобода». Это прямо по Фихте. «Человек рожден для действия». Это тоже в духе Фихте.
И все же есть некоторые, едва уловимые нюансы, которые не заметил Фихте, но которые отличают взгляды Шеллинга от фихтевского «учения о науке». И хотя Шеллинг еще не решается говорить о собственном учении, Гегель заявляет ему решительно — «твоя система».
От фихтевской она отличается интересом и почтением к объективному началу. Догматизм Шеллинг отвергает из-за недооценки субъекта, критицизм — из-за его переоценки. Между двумя крайностями «посредине лежит принцип Я, обусловленного не-Я, или, что то же самое, не-Я, обусловленного Я».
У Фихте тоже субъект изначально тождествен объекту, они слиты вместе, образуя нечто единое: субъект-объект. В чем же различие между двумя новаторами в философии? Гегель впоследствии напишет об этом специальную работу: Фихте обосновывает «субъективный субъект-объект», Шеллинг — «объективный субъект-объект». Все дело пока в еле заметных нюансах.
Расхождения между Шеллингом и Фихте, тщательно завуалированные выпады первого против второго видны в новой его работе «Философские письма о догматизме и критицизме», появившейся вслед за трактатом о Я. Здесь опять противопоставление двух крайних точек зрения. «Или нет субъекта, но зато есть абсолютный объект, или нет объекта, но зато есть абсолютный субъект. Как решить этот спор?» Догматизм противостоит критицизму.
Но почему Шеллинг превозносит Канта? «„Критика чистого разума“… обладает значимостью для всех систем, — или, так как все остальные системы являются только более или менее верными копиями двух главных систем, — для обеих систем… Пока стоит философия, будет вместе с нею стоять и „Критика чистого разума“, и только она одна». По мнению Шеллинга, «Критика чистого разума» содержит в себе подлинное учение о науке, ибо она обладает значимостью для любой науки. «Критика чистого разума» — канон всех возможных систем.
Кого имеет в виду Шеллинг, критикуя «критицизм»? О ком сказано: ничто более не возмущает философский ум, как утверждение, что отныне вся философия должна двигаться в рамках какой-нибудь определенной системы. Для Шеллинга нет более возвышающего зрелища, чем бесконечный простор расстилающегося впереди знания. Все величие философии для него в том, что она не может быть завершенной.
Что это за «критицизм», которому надо доказывать вред умственной тирании, убеждать в праве философской мысли на свободу, призывать к терпимости?
Кого надо убеждать в том, что термин «философия» целесообразно сохранить? «Философия — какое прекрасное слово! Если позволено будет автору участвовать в голосовании, то он отдаст свой голос за сохранение старого слова». Фихте ввел новый термин «учение о науке», говорил о «так называемой философии». Видимо, против него и направлен шеллинговский пафос обличения «критицизма».
Главная задача всякой философии состоит в разрешении проблемы бытия. Как критицизм, так и догматизм не могут справиться с этой проблемой. «Если последний требует моего уничтожения в абсолютном объекте, то первый, наоборот, должен требовать, чтобы все, что зовется объектом, исчезло в моем интеллектуальном созерцании себя самого. В обоих случаях для меня пропадает всякий объект». Термина «интеллектуальное созерцание» у Канта нет, созерцание, по Канту, может быть только чувственным. Об интеллектуальном созерцании заговорил Фихте. Следовательно, речь идет здесь о нем.
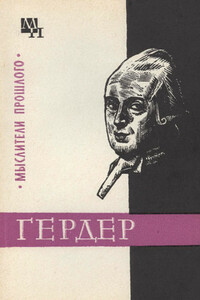
Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.
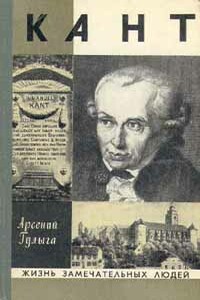
Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.
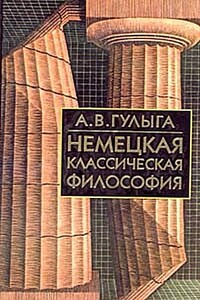
В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
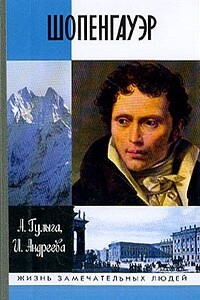
Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
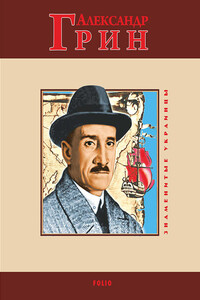
Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.
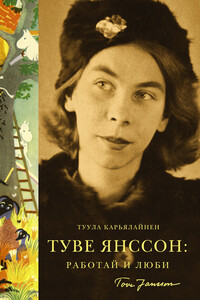
Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
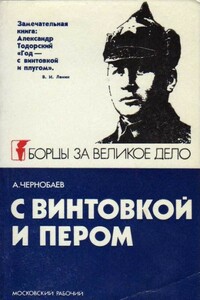
В ноябре 1917 года солдаты избрали Александра Тодорского командиром корпуса. Через год, находясь на партийной и советской работе в родном Весьегонске, он написал книгу «Год – с винтовкой и плугом», получившую высокую оценку В. И. Ленина. Яркой страницей в биографию Тодорского вошла гражданская война. Вступив в 1919 году добровольцем в Красную Армию, он участвует в разгроме деникинцев на Дону, командует бригадой, разбившей антисоветские банды в Азербайджане, помогает положить конец дашнакской авантюре в Армении и выступлениям басмачей в Фергане.