Шеллинг - [41]
После полуночи Гёте, Шиллер и Шеллинг уединились за столом, уставленным шампанским. Выпито было много. Гёте непринужденно шутил. Шиллер был предельно серьезен и ровным тоном излагал свою эстетическую концепцию. Когда Гёте перебивал его, он выжидал, а затем снова возвращался к теме. Шеллинг сосредоточенно молчал.
О чем мог он думать в первые минуты первого года нового столетия? О Каролине? (Она в этот вечер никуда не пошла, сидела с приятельницей, рано вернувшейся из гостей. Они сварили пунш. Августу Вильгельму нездоровилось, и он спал на диване наверху в ее комнате. Когда часы принялись бить двенадцать, она бросилась, чтобы разбудить его. «Я хотела разбудить Шлегеля, прежде чем прозвучит последний удар, потому что мне казалось, что возникнут дурные последствия, если он не будет бодрствовать при этом, как если бы он проспал аккорд своего созвездия, но он услышал бой и спешил вниз, так что мы встретились на лестнице, как два столетия. Но моя душа была с тобой, рядом с кольцом на твоей руке», — писала она потом Шеллингу.)
Мог он размышлять и наверняка думал о том, что еще не сделано им в науке и что надлежит прежде всего сделать. Вот сидят перед ним два веймарских титана, — каждый полон интереса к его идеям, но берет из них одну сторону, пе замечая другой. Гёте увлечен натурфилософией, к которой равнодушен Шиллер. Последнему, однако, понравилась книга о трансцендентальном идеализме, в ней он нашел близкую ему мысль о родстве поэзии и философии. Пока натурфилософия и идеализм существуют раздельно. Пора им слиться в единую систему.
В январе 1801 года вышел очередной номер «Журнала умозрительной физики». В нем статья Шеллинга «Об истинном понятии натурфилософии». Мнение Гёте об этой статье: «Как будто идешь в сумерках по знакомой дороге, ориентируешься безошибочно, хотя окружающих предметов не видно».
Детали действительно не прочерчены Шеллингом. Увлеченный общей идеей, он все меньше и меньше думает о них, а общая идея выражена четко, именно так, как понимает дело Гёте: субъективность не самодовлеет, она рождается из объективности, понимаемой вместе с тем (что не было в старой, догматической философии) как некое активное начало. «На высоком философском языке мысль эта звучит следующим образом: из чистого субъекта-объекта надо вывести субъект-объект сознания». Перед этим Шеллинг уточнил: «чистый субъект-объект» — это природа, «субъект-объект сознания» — Я. Есть «идеализм природы» и «идеализм Я», первый, по Шеллингу, изначален, второй производен. Деятельность природы предшествует деятельности человека. «Один непрерывный ряд идет вверх от самого простого в природе до самого высокого и сложного — произведения искусства». В следующем номере журнала Шеллинг обещает дать «изложение своей системы».
Необходимость в этом назрела. Расхождения с Фихте очевидны, столкновение неизбежно. Еще летом прошлого года Шеллинг попросил Фихте высказать отношение к его (Шеллинга) трудам. Ответ поступил 15 ноября 1800 года. Фихте наконец усвоил, что у Шеллинга, которою он считал верным своим адептом, есть какое-то свое мнение. Прочитал он, правда, только «Систему трансцендентального идеализма». И сформулировал несогласие. По его мнению, реальность природы выступает «как целиком обретенная, а именно готовая и завершенная, и таковой (обретенной) она является не сообразно собственным законам, а сообразно имманентным законам разумности». Природа, следовательно, живет по законам духа.
Шеллинг сразу же ответил письмом, в котором отстаивал примат и независимость природы. Ваше «учение о науке», говорил он, обращаясь к Фихте, ведь это же не вся философия, и решает она лишь логическую проблему построения знания. (Вспомним, что Кант в своем «Заявлении» против Фихте говорил именно об этом. Тогда, год назад, Шеллинг был возмущен: он держал сторону Фихте, теперь, однако, здравый смысл явно возобладал в его позиции.)
В декабре Фихте набросал ответ с резкими возражениями, с категорическим тезисом: «учение о науке» — это вся философия, но… не отправил. В Иену ушло другое письмо, куда более сдержанное. О некоторых расхождениях во взглядах он упоминает не потому, что они мешают совместной работе, а исключительно чтобы показать, как внимательно он читает произведения Шеллинга. В конце письма давалась, правда, поправка к шеллинговской натурфилософии: рассматривать индивид в качестве высшей ступени природы можно только при условии того, что в самой природе будет обнаружено нечто духовное, определяющее, заложенное в индивиде же. На этом он предлагал поладить. Время окончательной ссоры еще не пришло. Фихте, видимо, надеялся еще на возможность совместного издания «критического журнала».
Шеллинг внимательно прочитал письмо, испещрил его пометками. С ответом на этот раз он не спешил. Он был обижен: в одной из своих очередных публикаций Фихте назвал его «мой способный сотрудник». Его, на лекции которого сбегаются как на праздник, с чьим мнением считается ученый мир, к слову которого прислушивается сам Гёте! Покровительственный тон Фихте покоробил Шеллинга. Но он смолчал. Только пожаловался Каролине.
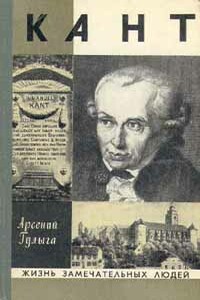
Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.
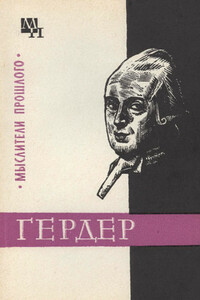
Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.
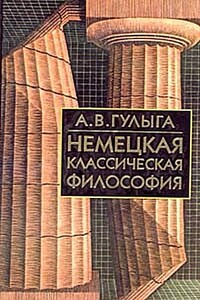
В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.
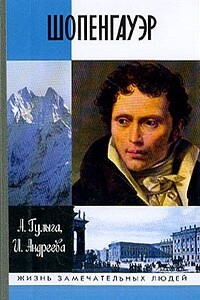
Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».