Шеллинг - [17]
(Пройдет сто с лишним лет, и в 1923 году Луи де Бройль создаст синтетическую теорию света, объединившую идеи корпускулы и волны. Эйнштейн скажет о работе де Бройля: «Хотя кажется, что ее писал сумасшедший, написана она солидно». Философия — резервуар «безумных» идей, в которых нуждается естествознание!)
Опираясь на идею единства противоположностей, Шеллинг пытается разгадать тайну жизни. Кант в своей «Критике способности суждения», обрисовав специфику органических явлений, заявил о невозможности объяснить их на основе доступных науке того времени принципов. (Наука отождествлялась тогда с механикой.) Одного механизма природы еще недостаточно, чтобы по нему мыслить себе возможность организма. Эта возможность, по мнению Канта, заложена в «сверхчувственном субстрате» природы.
Для «сверхчувственного субстрата» природы придумали название — «жизненная сила». Среди естествоиспытателей XVIII столетия был широко распространен взгляд, согласно которому носителем жизни служит эта магическая сила, недоступная научному разумению. Были, впрочем, и такие, которые считали, что для объяснения жизнедеятельности достаточно «мертвых химических сил». Шеллинг, как и в проблеме света, предлагает найти компромиссное решение, «объединить то и другое». На этот раз, правда, он не опережает натуралистов, а использует их результаты.
Речь идет о работах Александра Гумбольдта. Он начинал с увлечения теорией «жизненной силы». С достаточной строгостью не раскрыв этого понятия, Гумбольдт пытался дать ему образное выражение. В шиллеровском журнале «Оры» появился в 1795 году его этюд «Жизненная сила, или Родосский гений».
«Родосский гений» — название аллегорической картины, смысл которой не могли постигнуть жителя города Сиракузы, где она хранилась. На полотне были изображены обнаженные юноши и девушки. Охваченные чувственным порывом, они простирали друг к другу руки, но глаза их были устремлены к гению, который парад над ними. На плече у него сидел мотылек, в руке он держал горящий факел. Гений повелительно смотрел на толпу, и она подчинялась его взору. Никто не мог дать правильное толкование картины, пока в Сиракузах не появилось другое аналогичное произведение. На новой картине гений был изображен без мотылька на плече, с опущенной головой, с потухшим факелом. Окружавшие его юноши и девушки держали друг друга в объятиях, их взоры не были тусклы и покорны, как раньше, в них светилась радость освобождения от оков.
Философ Эпихарм, повествовал Гумбольдт, сравнив обе картины, раскрыл их тайный смысл. Гений и мотылек на его плече — символ жизненной силы; земные начала стремятся сочетать себя друг с другом, но гений заставляет их подчиниться его власти. Но вот жизненная сила иссякла, мотылек улетел, угас опрокинутый факел, земные вещества снова вступают в свои права, освободившись от посторонней им силы, они отдаются своим влечениям. День смерти становится для них днем обручения.
«Родосский гений» понравился публике, но не принес успокоения автору. Гумбольдт — естественник, и он ставит опыты. И вдруг они убеждают его в том, что никакой «жизненной силы» нет и быть не может. Нельзя называть особыми силами то, что происходит как взаимодействие материальных сил, ранее уже известных в отдельности. Органическая жизнь — особый тип связей, равновесие элементов в живой материи сохраняется благодаря тому, что они являются частями целого, нарушение связи между частями ведет к гибели целого и частей.
Об этом говорит А. Гумбольдт в новой своей работе «Опыты о раздраженных мускульных и нервных тканях, наряду с предположениями о химическом процессе жизни в животном и растительном мире». Работа увидела свет за год до появления книги «О мировой душе», Шеллинг хорошо знаком с ней. К формулировкам Гумбольдта он добавляет свои не менее категоричные:
«Понятие жизненной силы — абсолютно пустое понятие».
«Принцип жизни не внесен извне в органическую материю (наподобие некоей инъекции), наоборот, этот принцип создала себе сама органическая материя».
«Я полностью убежден, что органические процессы в природе можно объяснить, исходя из естественных принципов».
Трудность состоит в том, что в живом организме природа реализует принцип индивидуальности: в каждом живом существе протекают сходные процессы, но протекают уникально. В организме реализует себя и принцип свободы, хотя последняя не устраняет действия закономерностей. Жизнь — единство общего и индивидуального.
Общее свойство живого организма — раздражимость, способность реагировать на нарушение внешнего и внутреннего равновесия. «Открыть ее причины — значило бы разгадать тайну жизни». В поисках разгадки Шеллинг идет здесь путем диалектически мыслящего натуралиста. Жизнь, настаивает он, представляет собой единство двух материальных процессов — распада и восстановления веществ. «В живом организме должна поддерживаться непрерывная смена материи». Питание и окисление пищи — вот что составляет жизнедеятельность.
А как быть с «мировой душой», упоминание о которой вынесено в заголовок работы Шеллинга? Философ вспоминает о ней лишь в последнем абзаце книги. Он говорит о всеобщей непрерывности естественных причин и отмечает, что еще древняя философия предвосхитила эту идею в рассуждениях о «мировой душе».
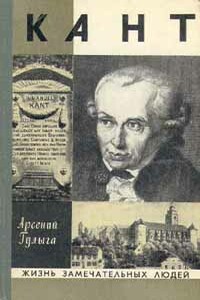
Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.
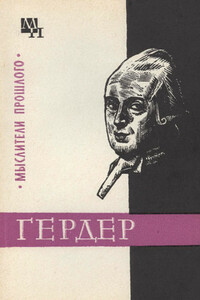
Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.
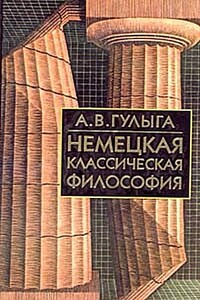
В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
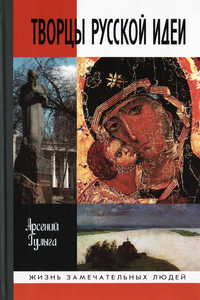
Книга широко известного в России и за рубежом философа и писателя А. В. Гулыги, чьи произведения в жанре «философской биографии» — «Кант», «Гегель», «Шеллинг» — хорошо знакомы читателям серии «ЖЗЛ», не укладывается в привычные рамки биографического издания. Эта работа в значительной мере является глубоким самостоятельным исследованием русской идеи, культуры, ценностей и смысла человеческой жизни, исторической судьбы России. Яркие философские портреты отечественных мыслителей от Ф. М. Достоевского до А. Ф. Лосева в сочетании с собственными размышлениями автора воссоздают прежде всего своеобразную и неповторимую Биографию Русской идеи.
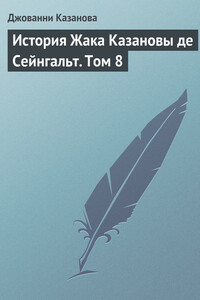
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».
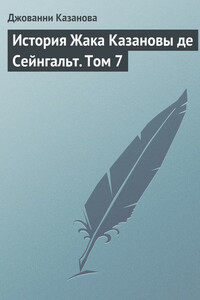
«– Вчера, – сказала мне она, – вы оставили у меня в руках два портрета моей сестры М. М., венецианки. Я прошу вас оставить их мне в подарок.– Они ваши.– Я благодарна вам за это. Это первая просьба. Второе, что я у вас прошу, это принять мой портрет, который я передам вам завтра.– Это будет, мой дорогой друг, самое ценимое из всех моих сокровищ; но я удивлен, что вы просите об этом как о милости, в то время как это вы делаете мне этим нечто, что я никогда не осмеливался бы вас просить. Как я мог бы заслужить, чтобы вы захотели иметь мой портрет?..».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.
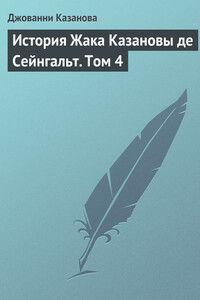
«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично.
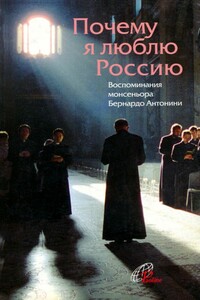
Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.