Шеллинг - [15]
Может ли философ помочь естествоиспытателю? Он может и помешать ему, полагает Шеллинг. Пришел черед Шеллинга споткнуться о кантовскую вещь «саму по себе». Давно ли он превозносил «Критику чистого разума», видел в ней всеобщий канон? Теперь Шеллинг утверждает иное: «В то время как кантианцы — в неведении относительно того, что происходит вокруг, — все еще носятся с призраком вещи самой по себе, ученые подлинно философского склада без шумихи совершают открытия, на которые вскоре непосредственно будет опираться вся здоровая философия».
Шеллинг советует противопоставить дух кантовского учения его букве и исходить из того, что «мы действительно познаем вещи, каковы они сами по себе, т. е. между представляемым и действительным предметом нет никакой разницы». (Совет противопоставить дух букве всегда хорош; и все же есть существенная разница между предметом и представлением: первый действительно существует сам по себе, а второе исчезает вместе с представляющим субъектом; кроме того, представление хоть и дает правильное знание о реальном предмете, но не исчерпывает его. Это и имел в виду Кант, создавая свое учение о вещах «самих по себе».)
Обе приведенные цитаты заимствованы из новой работы Шеллинга, опубликованной в 1797 году в иенском «философском журнале», «Общий взгляд на новейшую философскую литературу». Впоследствии Шеллинг дал этой работе другой заголовок, более точно передающий содержание: «Очерки, поясняющие идеализм учения о науке».
Здесь впервые Фихте назван им как глава нового направления. Шеллинг говорит о фихтеанстве как о «более высокой философии» по сравнению с учением Канта. Кант преодолел дуализм лишь в этике, провозгласив автономию воли; Фихте распространил этот принцип на всю философию.
Превознося Фихте, Шеллинг все же ищет свой собственный путь: Фихте весь погружен в дела человеческие, Шеллинга волнует проблема природы.
В природе он видит духовное начало. «Это всеобщий дух природы, который постепенно формирует для себя грубую материю. От порослей мха, в котором едва заметен след организации, до благородных образов, которые как бы сбросили оковы материи, господствует всюду один и тот же порыв, который устремлен к одному и тому же идеалу целесообразности, приближаясь бесконечно вперед к одному и тому же прообразу, воспроизводящему чистую форму нашего духа.
Никакая организация немыслима без продуктивной силы. Хотелось бы мне знать, как подобная сила может проникнуть в материю, если рассматривать ее как вещь саму по себе. Не надо бояться определений. Нельзя сомневаться в том, что ежедневно происходит на наших глазах. В вещах вне нас есть продуктивная сила. Но такая сила может быть только силой духа. Вещи не могут быть вещами самими по себе, вещами благодаря самим себе. Они могут быть только продуктами духа».
Шеллинг говорит об «иерархии организаций», «переходе от неживой к живой природе» и видит в этом творческую силу духа. Источником духовной силы является «хотение», волевой импульс.
Только не следует Шеллингу приписывать абсурдный взгляд, будто «Я создает себе не-Я». Так утверждал Рейнгольд, которого Шеллинг критикует в своей статье. Шеллинг настаивает на «изначальной нераздельности деятельности и страдательности», на том, что изначально существует только «самовозбуждающаяся, самоопределяющаяся природа».
Когда философ основательно интересуется природой, то должна возникнуть философия природы. С Шеллингом так и получилось. Полное название его труда, который он выпустил, едва достигнув двадцати двух лет, и который принес ему не просто известность, но и громкую славу, — «Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки». В заголовке можно увидеть определенную перекличку с главным трудом Гердера — «Идеи к философии истории человечества». Есть только одно еле уловимое, для русского читателя трудно объяснимое раз личие. Гердер не сомневается в правильности найденного решения и употребляет определенный артикль, указывающий на то, что может существовать только одна философия истории — Ideen zur Philosophie der Geschichte. Шеллинг пользуется неопределенным артиклем — Ideen zu einer Philosophie der Natur — строгий перевод: «Идеи к одной философии природы» (которая не исключает возможности другой). Шеллинг уверен в себе, но не самоуверен, терпим и осмотрителен. Претензия на исключительное обладание истиной ему всегда будет чужда и противна. Гегель начнет позднее, но, начав, уже не будет останавливаться, том за томом последовательно строить систему. Шеллинг же так и останется при изложении общих принципов. Он будет начинать, бросать, браться за другое, утверждать прямо противоположное с тем, чтобы в зрелые годы бросить все публикации совсем. Из-под его дера будут выходить только гениальные фрагменты.
Таким фрагментом остались и «Идеи к философии природы». Вопросов здесь больше, чем ответов. Шеллинг выпустил две части, обещал третью, но она так и не возникла.
Открывает книгу своеобразное историко-философское введение. В нем ставится кардинальный вопрос, как возникают у нас представления о вещах. Предмет и знание о нем — причина и действие. Казалось бы, все ясно. Но почему философы не могут договориться и ведут непрекращающиеся споры о духе и материи, создают системы одна головоломнее другой. Странные люди — философы: казалось бы, повседневный опыт опровергает их хитроумные построения. Как можно плыть против течения в потоке очевидностей? Если бы Платон прочитал Локка, он устыдился бы и удалился с позором, неужели так? Иной готов поучать самого Лейбница и убежден, что за час разговора смог бы объяснить ему все ошибки и обратить в свою веру. Сколько неоперившихся глупцов потешались над прахом Спинозы!
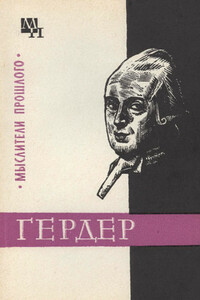
Книга А. В. Гулыги, первым изданием которой в 1963 г. открылась серия «Мыслители прошлого», посвящена немецкому философу, гуманисту и демократу эпохи Просвещения И. Г. Гердеру. Автор дает общую характеристику эпохи, краткий биографический очерк. Гердер — один из творцов историзма; в работе прослеживается возникновение идеи историзма в различных сферах творчества немецкого просветителя. Специальная глава посвящена философии истории. Большое внимание уделяется анализу гердеровской эстетики, оказавшей значительное влияние на последующее развитие эстетической мысли.
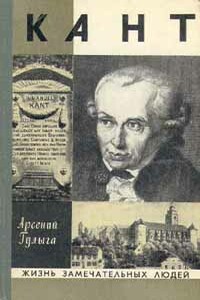
Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.
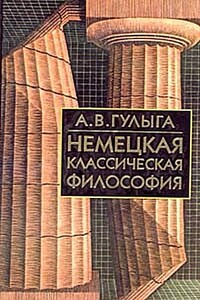
В книге известного отечественного философа А. В. Гулыги немецкая классическая философия анализируется как цельное идейное течение, прослеживаются его истоки и связь с современностью. Основные этапы развития немецкой классической философии рассматриваются сквозь призму творческих исканий ее выдающихся представителей — от И. Гердера и И. Канта до А. Шопенгауэра и Ф.Ницше.Рекомендуется в качестве учебника для студентов вузов, аспирантов и всех интересующихся историей философских учений.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
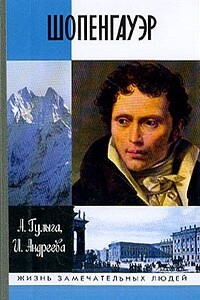
Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
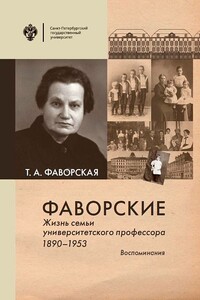
Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.
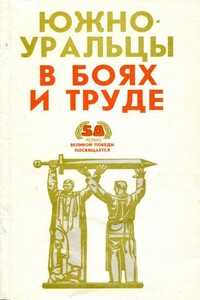
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
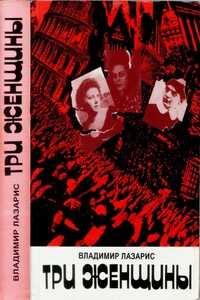
Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».
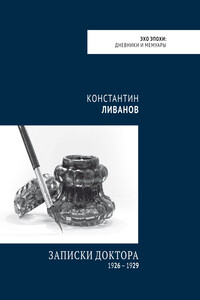
Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.