Щель обетованья - [4]
Итак, мы шли втроем в "культурный центр" пить кофе. Володя громко печалился, посвящая Олега в свои неурядицы с квартирой. Он сдал ее Аркану, а сосед стукнул хозяину, и хозяин теперь может, если захочет, выебать Володю "ад а-соф" /до конца/ за незаконную эксплуатацию квартиры под ключ, тем более, что сам - адвокат, хозяин-то. А Аркан все не съезжал, медлил, мол, некуда пока, гнусно намекал на компенсацию, чем повергал униженного поэта в невыразимую ярость, доставалось всем, и "вонючей последней алие жлобов" (Шмаков, невольно к ней принадлежащий, хмыкнул), и "черножопым недарезаным стукачам" и еt cetera. В Центре мы опять, по инерции, зашли к Малеру и я снова отоварился с тоски (так дома, мимо кухни пройдешь - непременно сожрешь что-нибудь), купил двухтомник Жени Харитонова, в тот раз не заметил, а я его люблю, опять же на знакомство Господь сподобил, через Мишу, он на меня произвел тогда очень сильное впечатление: настоящий одинокий волчара, и никакого общественного ража, всякой благородной диссидентщины, один против всех со своей свободой. А я вот все сионизьмом увлекаюсь, все не возьму в толк, что все народы - говно, и все государственные системы хороши для проходимцев, а твое дело перышком в келье скрипеть, да злым острым взором в окошко поглядывать на нелепый мир божий. И один страх - что душою скуден... Еще купил сборники ассирийской, вавилонской и древнеегипеской прозы, чего только не издавали в блаженные времена застоя. Потом мы прошли в садик, за столом под фонарем резались в карты, ночные мотыльки потягивали коньячок за сплетенкой, ну, и мы под смоковницей разместились. Подсел юноша, выпавший из картежной компании, потом девушка (он принялся укорять ее, "как она выдерживает с этим болваном"), вяло шел малозначащий разговор об общих знакомых, о Кире Сапгир (а я рассказал о Генрихе, который ходит по комнате и заявляет микрофонам в стенах: "Я - за Ельцина"), о Генделеве, о его ремонте и скором отъезде, об Альтшулере, о скандале Бренера (по одной версии Бараш его выставил, а по другой - тот же Бараш сказал Бренеру: "Это было классно"), о какой-то злоебучей немке-славистке, собирающей материал о "русских" в Израиле, о том сколько с ней литров бухнули, и как она тащила всех на себя, о Лонском, раблезианском пьянице. Молодой человек часто замечал: "се тре бьен", что я поправил на "зе* тре бьен". Вот так, посмеиваясь, лакая кофе, и вечерок скоротали. По дороге обратно Володя опять опасался за свое возвращение в Ерушалаим, в водоворот пьянок, рассказал, в ответ на мой запрос, о "мудаке" Альтшулере, который "зациклился на Аронзоне", а я рассказал ему про Вадима и про московские пьянки. Сегодня поеду в библиотеку Форума, на вечер Короля. Прочитал "Иерусалимский поэтический альманах" - все еще рассчитываю написать для "ГФ" заметку о русскоязычной израильской. Бараш во вступлении (называется "Мы" - я не люблю в поэзии, да и вообще, эти коллективистские "мы", "они", не по возрасту уже стайками бегать) академично манерен: "каковы же наши общие особенности (я отдаю себе отчет что это оксюморон)?" Что еще за оксюморон, еб°ныть? И эта классификация "менталитетов" и "сознаний" на "розенбаумовское", "окуджавско-давидсамойловское", "бродское", "приговское"? Но вот хорошо - "надышать традицию". Гольдштейн в послесловии, предупреждая об опасности "нагнать на читателя волну нестерпимой дешевки на тему о священной истории, дорогих могилах и связи времен", сам играет в скользкую многозначительность "имперских культурных мифов" ("когда умирает империя, остается созданная ею языковая космосфера..."), цитирует всем нам в утешение Тынянова: "Писать о стихах теперь так же трудно, как и писать стихи. Писать же стихи почти так же трудно, как читать их." Король неплох, узнаешь экзотику милуима, но чересчур знакомые ходы (вылитый я в молодости, даже лучше). Катя Капович, несмотря на всякую бабью жижу, вдруг задела походя - "ночь, где не спящий с тобою в обнимку видит с тобой те же сны." Эх, не пробуждай воспоминаний. Кстати о птичках, недавно был по русскому ТВ фильм о Бродском в Венеции, о "единственном невозвратившимся", с обрюзгшим губошлепом Рейном в качестве фона, с виляющим хвостом молодым человеком, и девушкой, бессловесно-восторженной. Венеция, Северная Пальмира, с понтом по латыни, убийственное "молодец, четверка" Рейну, за отгадку цитаты, что, мол, настоящее и будущее неинтересны, только прошлое, что приехать в Россию, как к первой жене возвратиться. Жест "невозвращения" выбран расчетливо, и оттого так нестерпимо манерен, все в жертву позе. От нравоучений все-таки не удержался: "...величайшая трагедия России... неуважение друг к другу", мол, все смеются друг над другом, а надо бы сочувствовать, тут же и Набокова процитировал, которому русские шуточки "напоминали шутки лакеев, когда они чистят хозяину его стойло", потом вдруг злоба прорвалась в "государственной сволочи", какие-то библейские пассажи пошли про простых рабочих, "вот когда я работал простым рабочим на судостроительном", что-то там "понял", и "в поте будешь есть хлеб свой", и что, мол, все равно: коммунизм, капитализм, и тут запнулся, зарапортовавшись, нога за ногу, с сигаретой, под расписанными лепными потолками дворца эпохи рококо, невозвращенец... Потом закартавил, зарокотал неторопливо: "Нынче ветгено и волны с пегехлестом..." И ничего с собой не поделаешь - плакать хочется о конце прекрасной эпохи. 11.8. Встали в пять утра и к полшестому пошли в синагогу: младший должен был налагать тфилин*. Евреи вокруг сочувственно суетились, помогали, поздравляли, и всячески выражали свою с нами почти семейную, радостную солидарность: нашего полку прибыло. В конце Барух, который вел церемонию, сказал: "А теперь дай им", а я денег-то не взял сдуру, и тут увидел, как выражение семейной солидарности в их глазах мгновенно сменилось выражением злобного разочарования проголодавшихся псов, которым не вынесли полагавшихся по случаю косточек. О, жиды! Вас нужно воспитывать военным коммунизмом, чтоб у вас сиськи высохли и клыки отросли от голода! - Я думаю, что наши пипочки - подружки. Им есть о чем поговорить (в болтливом расслабоне после добровольной сдачи крепости рассвирепевшим ордам...). Вчера ездил опять в Ерушалаим, в библиотеке Форума был вечер Миши Короля. Библиотекарша сексапильная. (Вот так между стеллажей бы, как между могил...) Читал неважно, монотонно, стихи на слух показались неинтересными. Собралось человек 30. Из коллег: Верник и Бараш. Бараш поседел. Да, еще Сливняк был, задавал вопросы о "еврейском становлении" поэта. Потом поехали к Королю домой. Машина, которая ехала за нами, отстала и потерялась по дороге. Так что пировали в Катамонах увпятером: Бараш, Верник, Король и мы с супругой. Верник ломался перед ней от галантности, целовал ручки, отпускал милые гусарские грубости. Я повествовал о Москве. Незаметно раздавили бутылку водки, стало оживленней. Попался на зубок Бродский, и я рассказал о фильме, о позе невозвращенца, но ирония моя оказалась неуместной - тут корифея чтили, Бараш доказывал мне, что это не поза, а очень даже оправданная и благородная позиция. Может быть. Может я просто злюка. Всучил Вернику рукопись книги, авось пристроит что в альманахе. Развезли всех по домам, супруга забыла у Короля пиджак. А он ей сборник подарил свой, "Родинка" называется. Вроде как "На Малой земле". Полистал - слабенький. Еще он гербалайфом занимается и набором. На вечере одна старушка спросила его про хобби. Сказал: компьютер. "Ну, - говорю, - покажи хобби." И он действительно продемонстрировал мне разные возможности на своем компьютере, да и принтер у него лазерный. Маленькое издательство на квартире, как у Пушкина на Садовой. Короче - потусовались. С Авраамом давно пора разобраться. Сократ и Авраам. Только мыслью, или только верою... Героизм - вызов судьбе. Может быть - вызов жизни? Героизм - явление языческое. Или вера в Бога, или вера в мужество. Если верить в Бога, не нужно мужества, мир устроен по разумному и доброму замыслу, который Всеблагой заповедовал праотцам, и нужно только быть исполнительным. А если Бога нет, то что, кроме мужества, остается? Сократ - раб героизма. Он идет на смерть ради "лица" своего, маски, бессмертного о себе мифа. Этот миф - форма его души. Жизнь коротка форма вечна. Поступок - ваяние души. Авраам - герой рабства. Монотеизм инфантилен и его суть в подчинении, в отказе от свободы воли и жертвенности. Роман об Аврааме - роман о человеке, выбравшем рабство, ставшим рабом Божьим. (Рабство из страха перед свободой, пугающей бессмысленностью...) С тех пор бунт еврею заказан. Его самопожертвование не героизм, а мученичество. В его воле только выбрать или отвергнуть Завет. Если отвергает, он просто "вне игры", он не еврей. Прошли века, и томление закрепощенной воли выродилось в несокрушимое еврейское упрямство. А жертвоприношение Исаака? Конечно, это сильная сцена, но жертвы не случилось, и она была назначена не по своей воле, а по Божьей, да и то, сына ведь, не себя. А сына можно и другого родить, вот Иову Господь и кучу детей опять послал, и всякого там крупного и мелкого рогатого скота не счесть, и "сытость днями". Я когда-то ужасался милостью Божьей Иову (не хочу другого мальчика!), не понимал, что для монотеизма люди, даже собственные дети, что домашний скот, личности не существует, а стало быть и страха смерти. Косим же мы траву - новая вырастет... Иудаизм - это даже не отказ от личного бессмертия, и не презрение к нему (о, это жест иного рода!), а полное и абсолютное его неприятие. Бог не оставляет места личному бессмертию, в нем нет необходимости, ты бессмертен в Боге. Еврею не нужно, как стоику, уговаривать себя быть мужественным перед лицом смерти. Мужество отчаяния ему не знакомо, потому что не знакомо отчаяние. Христианство - возврат к жертвенности. Ешу - герой, бросающий вызов миру иудеев и римлян, Богу и Кесарю, и Пилат, язычник, паганец*, преклоняется - "се человек!". А евреи требуют распять. Вызов, героизм, личность есть революция, разрушение Храма. Жертвенность - вино мятежей. С христианством выходит на сцену Бог, имеющий человеческую судьбу, Бог, ставший человеком, человек, ставший Богом. Вера христиан - в то, что человек может стать Богом. То-есть бессмертным. Это вера в бессмертие. "Я есмь Воскресение и жизнь." И тут соблазн, страшный, бесповоротный. Воскресение - бунт против жизни. Вроде фильмов о гепардах или летучих мышах, показывали фильм о евреях. Один, уже немолодой, заползший ночью в густой кустарник, как раненый волк, горячо, взахлеб молился: "Господи, Боже ты мой, помоги, помоги мне, я хочу быть в порядке /лигйот беседер/, я хочу быть хорошим мальчиком /лигйот елед тов/". Он причитал, похныкивая, как маленький... 12.8. Инна. Набегавшись целый день с книгами, в полчетвертого встретился с Викой на Новослободской и мы пошли к Сапгиру. У Сапгира гостил родственник, зять что ли, из Парижу (он, Сапгир, и сам недавно оттуда вернулся), профессор истории, полный, с бородкой, удивил меня не только чистым от сленга русским языком, по которому безошибочно узнаешь старую эмиграцию, но и бойким ивритом. Оказывается его тема - антисемитизм. Соответственно частые визиты в Израиль, а в Москву приехал на конгресс по борьбе с антисемитизмом. Ну что, говорю, ваши многочисленные визиты в Израиль не сделали из вас антисемита? (Шах для начала разговора!) Он решил, что я так шучу. Брызгал слюной на русских "фашистов", устроивших им в аэропорту провокацию. Ну, насчет фашистов я спорить не стал, а вот насчет антисемитизьма не преминул заметить, что по моему непросвещенному мнению никакого антисемитизма в природе не существует. Нет, евреев, конечно, не любят, это мы понимаем, так разве обязаны? Или есть за что? За муки? Ну да, насилие мы, разумеется, никак не поддерживаем, но считаем, что это забота евреев - не становиться жертвами насилия, драться надо уметь, а не на антисемитизм жаловаться. Антисемитизм жупел евреев-ассимилянтов, пытающихся переложить ответственность за свою судьбу на народы, среди которых они живут. Народы при этом обвиняются в "темных инстинктах", а опора создается среди космополитически настроенной интеллигенции "туземцев". Они естественно пропагандируют "общечеловеческие" ценности и миролюбивую политику (во время войны "темные инстинкты" просыпаются и евреям может влететь), а воевать готовы только за доктрины, ведущие к упразднению наций, например, коммунизм. Ему такая точка зрения показалась оригинальной и мы сцепились. Потом перешли на влияние Израиля на "традиционный антисемитизм", и так рьяно все это обсуждали (я, конечно, сел на своего загнанного конька о неспособности евреев к государственным формам жизни, ну нет у них уважения к границам, ни к чужим, ни к собственным), что окружающие, вначале подключавшиеся, полагая, что нащупана приятная тема для легкой светской беседы с юморком, потом отстали и заскучали, заговорив вперехлест о светских новостях. Мы с профессором догадались, что нас исключают из общества и решили спор отложить. Я пригласил его заглянуть ко мне в гости, когда будет в Израиле, вот тут-то, говорю, мы с вами, батенька, и поспорим. Но разговор (под коньячок и печенье) невольно все сползал (народ взбудоражился) на политику. Сапгир, и русская жена его, настроенная весьма агрессивно, жаловались, что в Париже на них нападали за поддержку Ельцина, что "там" совсем оторвались от нашей действительности, хоть и ездят в Россию чуть ли не каждый год (кажется тут были и камешки в огород зятя). "А я - за Ельцина!" - громко заявил Сапгир, и, подняв голову, повернулся к глухой стене, будто знал, что там микрофон. "Да, я - за Ельцина!"- добавил он еще более решительно. Потом сел на своего любимого осла "растущей славы": как его теперь ценят, как много печатают, приглашают, вот недавно с триумфом прошла его поездка с группой писателей по Дальнему Востоку, показывал статью из "Хабаровской правды", где отмечались его заслуги по борьбе, при этом вдохновенно говорил, что Россия встала на правильный путь, все идет хорошо, трудно, конечно, но хорошо, посетовал, что вот на Ближний Восток никак пока не получается с организованной, то бишь оплаченной, поездкой, что вот, мол, Гробман обещал, и Генделев обещал, а воз и ныне там. Потом рассказал, что в Грузию пригласили, но он не поехал, там разруха, эти сумасшедшие абхазы. Тут я не удержался, не могу спокойно сидеть, когда абхазов обижают, говорю нет никаких "абхазов" в природе, весь этот кризис - плод работы укромных российских служб, которые теперь потихоньку решили русские земли опять собрать, вот и учат грузин уму-разуму. Жена Сапгира возмутилась, тут же записала меня в "оторвавшиеся" и "непонимающие нашей действительности", что, мол, Россия уже не та, уже распростилась с имперскими поползновениями, "Россия никогда не поддержит мусульман-абхазов против грузин-христиан", геополитически веско обронил Сапгир, "мы никого не держим", ярилась жена-демократка (не в жидов ли рикошетом?), "вот чеченцы провозгласили независимость, и никто их не трогает"... "Да чеченцы на очереди", - говорю, -" вот с грузинами разберутся, возьмутся за Чечню, и чтоб вы меня правильно поняли - я вовсе не против, даже наоборот, всячески поддерживаю, и мечтаю, что Израиль войдет полноправным членом в Лигу мирового казачества, как передовой воюющий форпост против бусурман". Демократка решила, что я шучу, что-то меня всерьез в этом доме не воспринимали, и криво улыбнулась, а Вика тут же ловко перевела разговор на замечательное вишневое варенье, и вообще она всячески льстила, поддакивала и жеманничала, пытаясь втянуть меня в славословия великому Генриху, я покорно качал головой и все больше озлоблялся. В промежутке позвонил, как договорились, Инне. Она уже была дома. "Ну? Так я к тебе приеду?" (Муж на даче). Она слабо сопротивлялась, мол, простудилась, боится меня заразить, хотелось мне ввернуть, что целоваться не будем, но удержался, наседал конвенциональными методами, наконец, сдалась. К восьми мы стали откланиваться, тут позвонил Холин, Сапгир сказал ему "заходи", но жена возмутилась и "ушла к себе". Я в последний раз позвонил Инне и сказал: "Иду на вы". В лифте Вика шепнула, что жена Сапгира терпеть не может Холина, я же не скрыл от нее, что Сапгир на этот раз меня не порадовал, уж чересчур распирает его от самодовольства. Вика согласилась, не любит спорить. На одной из станций она вышла, а я поехал дальше, к Инне. Когда вышел из метро, небо ударило золотым светом. Дорога всплыла в памяти. Тревожные минуты перед проникновением в чужое логово, и на соседей бы не наткнуться, не подставить подружку. Прокрался успешно. Общее смущение. Обниматься не полез. - Кушать хочешь? - Хочу. Накормила. Вкусно. Повинился за неувязочки три года назад. Сказала, что не за что. Расспрашивала о житейском, о новостях, общих знакомых. Показала семейные фотографии. Сидели на кухне. Вовнутрь не приняла. Окно было открыто, короткий дождь прошумел. Идея ночлега таяла, как свет за окном. Я стал откланиваться, смирившись. Оно может и к лучшему. В коридоре все-таки обнял ее, почти по-дружески. Поцеловал. Мягко отстранилась. "Ну что, я пойду?" Кивнула. "А может остаться?" - я уже издевался, только вот над кем? Покачала головой, на меня не глядя. И я ушел. Как тогда, двадцать лет назад, несолоно хлебавши. Может месячные? На полдороги вспомнил, что забыл зонтик. И опять, тайно пробираясь... Уже ждала меня, с зонтиком в руке. Поулыбались, как японцы, и - в путь. Пивная церемония вокруг столика у ларька, шелуха от воблы, собаки стайками, дети на велосипедах, пенсионеры в тренингах, злобная старушенция с авоськой набитой пустыми бутылками, лотки с колониальными товарами у метро. Ну и ладушки. Как-то в ноябре, слякоть напомнила Пасху, когда мы познакомились, только еще тоскливей была, бесприютней, я провожал ее домой, в квартал хрущоб за Лефортовскими казармами, промозгло было, мрачно, пустынно. И вдруг: "Хочешь зайти?" Квартира, как у моих: две проходные, совмещенный санузел. Даже мебель похожа. - А родители где? - На Кавказе. Скоро приезжают. Заварила чайку. - Хочешь Шопена послушать? У меня есть пластинка Рихтера. Валяй. Задребезжал переносной проигрыватель "Аккорд", платье на ней было широкое, лампа под желтым абажуром на письменном столе - далеко, и оттого в комнате сумрачно, сидим рядом на диване с чашками в руках, Шопена слушаем, поставил я свою чашку на пол да и лег головой на колени ее, лицом к животу, к лону поближе, и приняла она мою буйну голову, и в кудри пальчики пускала гулять, да ноготком профиль кондотьерский ото лба к подборотку царапала, а потом поцеловала, я уж подумал было, что наконец-то, но чем настойчивей себя вел, тем неуверенней она становилась, настороженней, а сопротивление ее - тем упорней и бессмысленней. И она сказала "нет". "Я так не хочу." Я не стал выяснять как же именно она хочет, молча собрался - она так и осталась полулежать на диване живописно растерзанная, Шопен кончился, стучала иголка - и ушел в промозглую ночь, мокрый снег, ледяной туман. Такси в такое время и в таком месте не ошивались, и я отправился на Сортировочную в надежде перехватить последнюю электричку. Эх, слободские вы мои булыжные окраины, покосившиеся заборы да избы деревянные, переулочки грязные да фонарики тусклые, редкие, под вуалью косого снега, черный мой романс, родина моя непутевая, окаянная! А снежок-то с градом разгулялся, будто назло, расхулиганился, наотмашь лицо хлестал. Шел я нахохлившись, боком к ветру, с ухмылочкой-разрезом на поллица, гуинплиен эдакий, все повторял "есть в мире сердце, где живу я", в том смысле, что нет в мире такого сердца... На платформе было скользко и абсолютно безлюдно. Стою под секущим дождем-градом-снегом, как среди стеклянных колосьев, танцующих на ветру, по лицу хлещущих, спрятаться негде от жути. Показался вдалеке поезд, медленно приближающийся, столпом света тьму таранящий, по мою душу полз. Но, поравнявшись с платформой, не замедлил бег, а прибавил, пронесся мимо бешеным табуном ярко освещенных вагонов и, толкнув меня вихрем, издал такой вопль безысходной ярости на всю вселенную, что я улыбнулся вот кто спел мою песню... 13.8. Жена недавно спросила: "А хочется вернуться в прошлое, стать опять молодым?" Я задумался, стал искать такую точку в жизни, в которую мне хотелось бы вернуться и не нашел. И к молодости никакой тоски не почувствовал. Вот странно. Потому что "это кино мы уже смотрели"? Заметка для "ГФ": "Восходившим" в 70-ых казалось, что возникнет непременно и скоро такая израильская литература на русском, которая будет явлением, подобным латиноамериканской на испанском. Надо признать - началось все лихо, кураж был. Уж очень хотелось утереть нос метрополии. Не мы ли им дали Мандельштама-Пастернака-Бродского, не говоря уже о багрицких и бабелях, да и Фет каких-то неопознанных кровей, даже Пушкин из наших, из "эфиопов", в разбитных русскоязычных газетенках тщательно анализировался состав крови Лермонтова. Были надежды подключить к сионистской телеге знатного литбиндюжника Бродского, но последний проигнорировал, предпочитая катать телеги в Рим, на манер Назона, рассчитывая, не без оснований, на лавры неоклассика. (Говорят на столбовой дворянке женился.) В результате сложилась некая областная ближневосточная русская литература, на манер скажем дальневосточной, со своими журналами, газетами, альманахами, литкружками и объединениями, со своими местными талантами, рвущимися прозвучать в Москве, со своими изгнанниками и отшельниками, удалившимися от столичной суеты в поисках экзотики, колорита и гордых литературных поз. "Встречи" с аборигенами не произошло. Местная литературная братия, организованная вполне по-советски, готова была поучать и перевоспитывать, но никак не внимать. Пришельцы же отнеслись к "коренным", как к "пробудившейся Африке", которую представители великой цивилизации, случайно занесенные на берег кораблекрушением, должны обучить грамоте. Пошумели гусаки, пошумели, и завяли. Часть "ушла в переводы", на русский - ивритской классики, в богоугодные усилия по просвещению репатриантов, в массе своей совершенно темных в области национальной культуры (это был социальный заказ и он оплачивался), другая - влилась в широкий и мутный поток "эмигрантской" русской литературы, который с перестройкой быстренько иссяк. Большая часть из наиболее талантливых и масштабных литераторов из страны по тем или иным причинам уехала (Юрий Милославский, Анри Волохонский, Леонид Гиршович). Местный Борхес не явился. "Толстые" журналы постигла участь их российских аналогов: часть закрылась, часть переместилась в Россию и там усохла ("Время и мы"), часть безнадежно устарела и дышит на ладан ("22" - последний оплот неувядающих израильских "шестидесятников", а на дворе уже другое тысячелетье). Впрочем жизнь еще теплится. В более камерных формах. Группы приятелей и единомышленников пытаются издавать свои групповые журнальчики или альманахи. Так например, удачно прозучал "Иерусалимский поэтический альманах" группы Бараш-Верник, так сказать прогрессивно-традиционной, в русле Бродского. Бараш в этой группе наиболее авантажный, он же и "прогрессивный". Талантливая поэтесса Дана Зингер вместе с мужем, художником Некодом, при участии книготорговца и прозаика Малера начали издавать "неоэклектический" журнал "И.О.", оформленный в стиле "самиздат", что должно продемонстрировать его независимость и уважение к эксперименту, журнал °мкий, посвященный современному литературному процессу в Израиле, как русскоязычному, так и на иврите, через переводы. Вышел уже 3-й номер (оформление действительно симпатичное). Продолжает посильную (а сил, то бишь средств, почти нет) издательскую деятельность Владимир Тарасов, своеобразный поэт и культуртрегер "новой" литературы, ни на кого не похожий, мужественно, почти в одиночестве, строящий свою космическую поэтику. Начав с великолепного альманаха "Саламандра", составленного вместе с Шаргородским, он недавно выпустил, вместе с вездесущим Малером, третий "Слог", изящный журнальчик, интересный, но несколько "разбросанный", не проявивший лица. (Вообще-то мода на эклектизм и маргинальность не случайна. В ней есть прагматическая тоска по блаженным временам самиздата, нищие короли которого стали внезапно классиками "новой" литературы, тщеславное и тщетное желание повторить этот славный вираж. Но в ней и растерянность, характерная для нашей зыбкой эпохи, когда человек вплотную подошел к мучительному пределу своей индивидуальной свободы, и ощущение беспредела воли, не находя достойных форм культуры, взрывает личность, рвет старую культуру в эклектические клочья, которые "неоэклектики" , притворяясь "наивными", складывают в свои цветные калейдоскопы.) 15.8. Дикая влажность. Гнетущая. Только ближе к ночи можно вздохнуть. Утром, заскочив по дороге на почту (письма нет) и в банк, поехал к Володе. Рассказал ему о вечере Короля, о нашей, с Барашем и Верником, беседе о Бродском, который мне кажется позером (ввернул "невозвращенца", над чем и посмеялись), а им - последовательно и мужественно отстаивающим свою позицию. Поплакался ему, что заметка идет с трудом. "Да, - сказал Володя, - нелегко писать о живых, если хочешь быть честным." По дороге на почту (обычный маршрут наших прогулок) он рассказал, что тоже пишет серию статей о русскоязычных литераторах, о Дане, о Бокштейне, о Генделеве, Волохонском, сетовал, что никто о нем не пишет, что вообще никто не пишет о текущем литературном процессе, ругал за это Гольдштейна, побеседовали о литературных позах, я говорю, что литературный мир в виде сада скульптур, мне неинтересен, хочется живого тепла взаимодействия, ведь плодотворный культурный процесс всегда результат усилий целой группы, "плеяды", как любили говорить на Руси, вспомнил (мы шли по бульвару Бен-Цви, загребая сандалиями песок) его восклицание многолетней давности: "Ты что, Наум, среди литераторов друзей ищешь?!", как смутился по-юношески его иронией, и только теперь ясно осознал, что да, ищу. И вспомнил про Мишу. Володя понимающе кивал. Сказал с горечью: "Все только преследуют свои интересы, вот что противно." Заказов для него по новому каталогу на почте не было, я вообще удивляюсь, как ему удается кое-что таким манером подзаработать, и мы зашли в книжный напротив. Я там выкопал "Португальские письма Гийерага", "Краткую историю Вьета", "Баодзюань о Пу-Лине" и "Кабира Грантхавали" целое сокровище, и вс° за 80 шекелей. Володя ревниво поглядывал на мои раскопки и небось жалел, что показал мне этот книжный закуток. Потом вернулись, я взял у него первый номер "И.О." для заметки. Пустились в злословие. Сливняк - "дурак субтильный", Малер - "надутый болван", "бык", "чудовищная амбиция", "в этой его херне, которая называется 200 слов, на самом деле 240 слов, даже посчитать не сумел!" - Да, - говорю, - это все портит номер. Ну как она эту чушь взяла? (прочитав первые фразы в опусе Сливняка) Во вкусе ей все-таки не откажешь? - Сказала мне: чтоб отвязаться от него номеров на пять, мозги засрал. Потом завернул в Дизенгоф-центр, давно думал присмотреть в секс-магазине какие-нибудь "китайские пальчики" и фильм позабористей, но магазин закрыли, зато купил книжку по программе "Дагеш", 45 сикелей. Будем осваивать новые технологии. Только что, машинально переключая программы, нарвался на фильм о Френсисе Беконе, художнике, который мне не очень нравился (в Лондоне, кажется в галерее Тейта, его было много), казался нарочитым, какие-то хари всмятку, будто раскрученные на чудовищной центрифуге, но в контексте интервью с ним, полупьяным старым гомиком в портовой забегаловке, с рожей въедливой одинокой старухи, рассуждающим среди пьяниц с глазами кроликов о Веласкесе, картины вдруг ожили, заинтриговали. Эти лица, тронутые оползнем, разодранные в крике рты. Оглушительная немота крика. Кстати, не вышел ли весь Бекон из "Крика" Мунка? Замечательный фильм, замечательный тип, замечательные ребята эти чудовищные ирландские пьяницы из окраинных баров... Отослал ей письмо. Утром допечатал на "Лексиконе", шрифт хорош, и отослал. Молчит что-то. Загуляла? Или моего письма ждет, гордостью мучается? И А. не звонит. Муж в отпуску, небось глаз не спускает. 16. 8. Миша. На следующий день после приезда, по дороге, поставил в машине кассету Тани Булановой, группа "Летний сад", которую мне Миша подарил. "Здорово поет. Тоска - страшная." Пела действительно неплохо, а уж тоска - то что доктор прописал. Да еще такая бабья, воющая, они, бабы, оказывается тоже тоскуют... Я врубил ее на полную громкость, нехай вся Израиловка слухаеть, нехай захлебнется мрачной рассейской удалью. "И никогда, ты не поймешь, за что тебе я все прощаю, твои слова - обман и ложь, а я в любовь все превращаю..." Народ, встречный и попутный злобно оглядывался и терял управление. Нет, не уехать из России, как не уйти от наркотиков (у Володи вся рука исполосована уколами), вот и живешь будто в двух параллельных мирах. Это Миша сказал тогда, у Библиотеки Ленина, когда Белашкина ждали, про параллельные миры. И я сразу вспомнил свою старую, еще отроческую мысль-идею-прозрение о параллельных туннелях жизни тела и духа, одна жизнь - действительная, но будто чужая, а другая воображаемая и родная, биология и филология... Они с Иосифом встретили меня в аэропорту, я их просил, на случай если Боб не приедет. Обнялись. Прижал их к себе, как детей. Они оба такие маленькие, поджарые, а я еще и растолстел. Стали искать Боба. Он обнаружился (и тут 25 лет прошло) неожиданно, узнал меня. Не так уж катастрофически изменился, но сам я бы его в толпе не выловил. Супруга молодуха полненькая, была настороже. Я извинился, нельзя ли всех взять? Радости по поводу дополнительных пассажиров супруга не выдала, но Боб был гуманнее. Мы легко втиснулись в боевого вида "Волгу" и покатили. Когда выходил из самолета в начале одиннадцатого, было еще совсем светло, непривычно. А теперь - ночь. Изредка крапал дождь. Я был в состоянии тревожной эйфории. Взахлеб отвечал на светские расспросы Боба - "как вы там?". Иосиф равнодушно молчал, Миша нервно курил, иногда усмехаясь. Глядя на мокрые, поблескивающие под фонарями московские улицы, я плохо понимал, что со мной происходит, только время от времени бурно выдыхал: "Чудеса!" Миша при этом бросал на меня испытующий взгляд. Жена Боба жаловалась на креминогенную обстановку ("стреляют по ночам"), делилась планами летнего отдыха ("мы вообще-то планировали поехать в Израиль, или в Испанию, но потом решили - в Турцию"). Я сказал, что у нас тоже любят ездить в Турцию, но такие планы не каждый может себе позволить, и этим заявлением сделал для нее нашу совместную поездку заметно приятнее. Впрочем мне еще Марина докладывала, что "Боб женился на молодой, зубной врачихе, и сам неплохо промышляет по линии продовольствия, импорт курочек". На Преображенке скинули Мишу. На Сиреневом, у кладбища, на углу с Никитинской, остановились. - Во двор не въедем, - сказал Иосиф, - там дерево на дорогу упало. Вылезли. Я сердечно поблагодарил. Выразил надежду на встречу. Поползновение заплатить Боб остановил решительным "Обижаешь!" - Ладно, - говорю, и достаю бутылку "Финской", - а водку ты пьешь? - Ну, это совсем другое дело, это я возьму. Почти неделю, ну, чуть меньше, я избегал встречаться с Мишей, он звонил, я уклонялся. Боялся, что он помешает моим наследственным делам, боялся его болезненного состояния, боялся встречи с прошлым, с самим собой в прошлом, боялся заболеть любовью... к чему? к кому? 18.8. Вчера в дикую жару и ужасную влажность потащились к Ф. в гости (недавно приехал, ищет контакты), в "гатчину", а потом вместе - в Бейт-Джубрин. Там, в подземных катакомбах, газеты писали, финикийские росписи обнаружили на стенах захоронений, бестиарий. Что-то рисунок мне показался свежим, да и немного гротескным. Сторож-йеменит говорит: да олимы* тут раскапывали, а один - художник, он и нарисовал, а потом корреспонденты набежали, по телевизору показывали. А вокруг пастораль хевронского нагорья: зеленые холмы, коровки бурые в долинах, струящийся воздух, ручьи овец... Ф. и жена его бодрятся. А я, как стадо этиопов у дома их увидал, а по стенам виды Ленинграда, друг-художник подарил, такая тоска взяла... Дом высокий, многоэтажный, у нас в Азуре такой же был. Только вместо этиопов "бухара" толпилась. Детишки их в лифте любили писать. 19.8. Опять А. снилась. Как наяву. Неужто меня зацепила эта пресловутая "любовь стареющих мужчин"? Скучаю. Заметка для "ГФ" не клеится. Получается сухо, казенно, вроде школьного сочинения. "Поэтическая поступь Тарасова - хождение "яко по суху", парение, перепрыгивание с планеты на планету, как по камням, торчащим из стремнины..." 21.8. Сегодня у младшего церемония "восхождения" к Торе. Летнее субботнее утро. Еще не так жарко. Синагога жужжит. Мужики среднего, старшего и полу-среднего возраста. Народ обычный, не "богобоязненный", в основном Восточная Европа, со своими почетными местами, местами купленными, галеркой, со своими фрондерами, аутсайдерами, слабоумными и любителями задать строгача, все как в миру, по-житейски, без трепета священного. Где уж тут ветхозаветный дым на теплых алтарях. Но, читая вместе с ними длинную утреннюю молитву, целую молитвенную повесть (время от времени они взрывались мощной, слаженной песней, в отрывке "Благословен Ты Господи, Владыка всего, что происходит..." эта песня показалась мне похожей на русскую бурлацкую, когда дружно, почти весело, тянут артелью свое неизбывное тягло, вспомнились "Страсти по Матфею" Пазолини с русскими революционными песнями), я вдруг почувствовал в этой слаженной мощи - откуда что берется в хиловатой стариковской толпе, без музыки - что у этого народа и вправду есть Бог, и есть Учение, и зерно глубокой полной веры не сгнило, а значит государство никогда не станет важнейшим, единственно возможным основанием национальной жизни, и они не лягут за него костьми, а значит оно, их национальное государство, обречено, а может быть и ненужно... И я осознал вдруг глубинную суть неприятия государства "богобоязненными": оно создавало альтернативную, конкурентную основу для национальной жизни, грозя заменить национальную веру национальной культурой. Их неприятие непримиримо и, увы, победоносно, потому что быдло освобожденное и веру утратило и культуру не создало, ни национальную, ни государственную, так, каждый со своим галутным скарбом, в круговой отчаянной обороне против всех и вся. А когда мир объявят, баррикады разберут, побегут с врагами брататься, тут-то восточная топь все и поглотит, будто и не было ничего. 22.8. Я заболел Москвой. Жизнь потеряла целевой стержень, рассыпалась на мелочи, распалась, не сложилась в цельное произведение. Биография храм, и архитектор из меня вышел неважный. Можно, конечно, потешить себя тем, что вышло что-нибудь эклектического... Недавно опять приснился тот отроческий сон, так напугавший и так запомнившийся, сон о разъезжающихся платформах, когда я стою на обеих и никак не могу решиться на какой остаться, а потом уже и не могу остаться ни на одной, а просто разрываюсь - одна нога тут, другая там. М-да, конкистадора из меня не вышло. Была романтика новых земель, героических свершений, хотя бы приобщения к ним. Terra nova оказалась пятачком, забитым до отказа нациями, цивилизациями, религиями, языками, людьми, мятущимися в перманентной истерике, и этот "плавильный тигель" не сделал меня частью национального сплава, а просто растворил в бетонном растворе и спрессовал в брикетик для лунки на Холонском кладбище. Но жизнь не осуществляется не потому, что переехал, уехал, уб°г, не решился, испугался, смирился, а потому что... Вчера, согласно йоге, решил поберечь "жизненную силу": попрыгал, попрыгал и слез. Может просто надоело... Она сонную из себя строила, мычала чего-то, или в самом деле еще не проснулась. А после работы пришла: - Мне так не нравится. Ты что решил, по-японски? И просто высосала. Вампир. Просто высосала и в полотенце сплюнула. А сегодня после работы пришла: - Потрогай мне. Осталась в красных туфлях, я ее сначала перед зеркалом поковырял, а потом потрогал. Дрожала так, будто вот-вот взорвется. "Ты не знаешь, не знаешь, не знаешь, как мне хорошо!..." Разрядилась в конвульсиях и заплакала. Я еще немного поковырял на десерт и уступил семя. Глаза у нее, как расплавленное стекло. Щеки красные, губы пунцовые, вспухшие красива, ничего не поделаешь... 23.8. Снилась огромная, черная, глянцевая рожающая черепаха. Она рожала у нас во дворе на Арбате, а я смотрел на нее в окно. А может от дикой влажности и жары такое бессилие... Мокрый весь... Володя решился на радикальные перемены: уходит от Рут и переезжает в столицу. Зашли к Малеру, посидели в "садике", откушали кофию, потом - к Дане. Там фигурировала Лена Толстая. Дана мои тексты обсуждать не пожелала, говорит, что не любит это делать и не умеет. Ладно. Некая холодность имеет место быть. Потом к Королю подскочили, отобрать позабытый спинджак. Король извивался перед Володей, будто к нему пожаловал принц Уэльский, а мне показывал разные фокусы с Corel Drow. Мне показалось, что он поддатый. Но Володя говорит, что он всегда такой "отмороженный". 24.8. Сил что-то ни на что нет... 29.8. Володе стукнуло сорок. Уже в мальчиках не попрыгаешь. Помню его 15 лет назад кудрявым занозистым ангелочком за прилавком у брезгливого Нойштада. "Нойштад", "Лепак", "Болеславский" Саши Аргова - целая эпоха русской книготорговли сгинула на наших глазах, у нее был еще запах уютной, местечковой колониальной коммерции, некая таинственность эмигрантского интеллектуального братства... Нынче владычат на рынке "новые русские", народ хваткий, бесцеремонный, за прилавками у них наемные дэушки и ученостью их не обморочишь. Встретились мы на Буграшев, где Дана и Некод вели переговоры о выставке. Я передал Дане рецепт, который она просила, супруга сбежала в соседний магазин бус, я видел через стекло, как она копается в мерцающем развале со страстью археолога, случайно обнаружившего под могильной монастырской плитой средневековые манускрипты. А мы с Володей разболтались. Я поведал ему, что в последнее время стал ощущать болезненую раздвоенность, утерял чувство общности с народом в Сионе, отсюда, неровен час... А с Россией, особенно после последней поездки - наоборот. - Так что, - с прямотой римлянина спросил Володя, - думаешь вернуться? Я заюлил, мол, пока вроде нет, да и не об этом речь, а о духовном. - А я, - рубанул он, - в последнее время понял, что рано или поздно перееду в Россию. Я изумился и почему-то испугался. - Только вот.., - пошли последние откровения, - Генделев и Сережа говорят, что убьют, если разгуляюсь где-нибудь в баре. - В каком баре? - Я знаю, что они преувеличивают (он был очень серьезен), но все же... вот чего я боюсь... Потом мы вшестером посидели у него, под винцо и салаты побазлали об авангарде, пытались определить. Некод, которого я раньше воспринимал только как "при особе", вдруг "воплотился", обрел "лицо", причем симпатичное. А вот с Даной "романа" не получается, смотрит строго. Миша Так вот, еду я значит в Тель-Авив, к Володе кажется, и "Летний сад" Танин на полную громкость, открыв окна, завожу, иудеев пугаю, "Скажи мне правду а-та-маан...", а сам Мишу вспоминаю, коротко стриженного, с беззубым ртом, только черные редкие корешки, и глаза - провалы, страшно смотреть, его конуру на 12-ом этаже, всю заваленную хламом, собачьей шерстью, невыносимо вонючую. Марина объясняла мне его кризис, когда он звонил мне чуть ли не каждый день в 6 утра (науськиваемый Зюсом) и что-то грозно требовал насчет теткиной квартиры, угрожая разрывом отношений, что кризис был спровоцирован моим приездом, а у шизофреников в момент кризы сильная эмоциональная привязка, любовь-ненависть к какому-то выбранному лицу, тут они становятся опасны, ибо коварство их и жестокость, освященные любовью или ненавистью, не имеют границ, и что я стал для него такой привязкой. Помятуя об этом диагнозе, да и злясь все еще на его "вмешательство во внутренние дела", я почти неделю избегал встречи с ним, созванивались несколько раз, он рвался прийти, но я не давался. Впрочем в его поведении произошла существенная перемена, он контролировал себя, был со мной осторожен, даже предупредителен, явно боясь "спугнуть". Наконец, мы договорились, что я утром, часам к 11, зайду к нему. 30.8....Писем от тебя нет. Но я не волнуюсь... Вчера звонила, но ты уже ушел. Поздравляю тебя с бар-мицвой младшего. Пришли свое расписание. Если я приеду ...-ого октября, сможешь ли освободиться чтобы съездить туда, куда не съездили в августе? Где книжка? С Новым годом! Сегодня учительское собрание. Пришел срок впрягаться. "Самым великим из всех оказался Авраам: он был велик мощью, чья сила лежала в бессилии, велик в мудрости, чья тайна заключалась в глупости, велик в той надежде, что выглядела как безумие, велик в той любви, которая есть ненависть к самому себе." Кьеркегора восхищает безусловная Вера. Ее слепота и несокрушимость. Воистину нужно отчаяться перед светом, чтобы полюбить этот мрак. Миша Воняло уже в измученном лифте (было два, второй не работал) и на лестничной клетке. В коридоре - свалка. На ручке двери записка: "вышел с собакой". Вторая собака выла за дверью. Это меня разозлило: пришел я точно, как договорились, уж не мог раньше с собакой выйти, или потом? А еще такой требовательный насчет точности. Но я унял раздражение, объяснив эту выходку не столько маленькой местью, сколько страхом встречи со мной. Полагая, что он вот-вот придет, я ждал его наверху, прислушиваясь, не звякнула ли внизу дверь лифта. Потом спустился и стал прогуливаться у подъезда. Воздух бодрящий, дорожки еще не высохли после ночного дождя, с тополей-великанов пух уже не слетал обвалом, а падал редко, кружась. На меня подозрительно оглядывались выходящие из подъезда, решил увеличить радиус кругов, все больше раздражаясь на то, что он исчез и на собственное волнение. Наконец, явился. Поздоровались. Белый кобелек беспокойно закружился, обнюхивая. Он держал его на леске, прикрученной к деревяшке. Выглядел не особенно бодро. - Извини, я был вынужден выйти с ним, - он заикался чуть сильнее обычного, - у второй собаки течка, и он страшно возбуждается. Я и в квартире держу их раздельно, суку на кухне, а этого в комнате, так они такой вой устраивают - соседи жалуются. Вошли в знакомую квартиру. Сколько было здесь переговорено. Кухня, комната, коридор. Только на сей раз она была особенно захламлена. Посреди комнаты, собственно почти на всем пространстве, не занятом мебелью, громоздилась пирамидой свалка из книг, ящиков, деталей и частей старых электро - и радиоприборов, магнитофон "Яуза" конца 60-ых, мои гантели, которые я оставил, когда уезжал ("Мои гантели!" - радостно узнал я, Миша, вздохнув, кивнул), жизнь, ставшая мусором, ни разобрать ни выбросить. Собаки заливались лаем. - Погоди, я его привяжу, а то он будет тебя ебать. Человек еще может себя как-то переключить, а собака - бедняга... На столе тоже была свалка, но поменьше: бумаги, какие-то механизмы, детали, паяльник, на диван с мертвыми пружинами я боялся сесть - все было покрыто толстым слоем шерсти и невыносимо воняло. Окно было закрыто. - Миш, - робко поинтересовался я, - а чего ты окно не откроешь? - Понимаешь, они ведь лают, соседи в милицию жаловались... Но раз тебе... я знаю, что должно вонять, но я запахов ведь не различаю, - и он приоткрыл окно. Я подошел к окну, распахнул его и, забыв о врожденном страхе перед обрывами, наполовину высунулся наружу. Вдохнул полной грудью. - От этого у меня и сексуальность деформирована, - продолжал он о своей нечувствительности к запахам, - у людей же, как у собак, все через запах. - Слушай, а чего ты их не отпустишь, - отчаянный лай мешал разговаривать, - пусть себе ебутся, зато тихо будет. - Ты что, а щенков я куда дену? - Ну, максимум, можно и утопить... - Нет. Пусть лучше терпят. 31.8. Министр ин. дел Египта Абу Муса с визитом в Израиловке. По протоколу официальные визитеры такого ранга должны посещать "Яд ва Шем", Абу Муса отказался. После этого надо было бы его по протоколу спустить с лестницы, но шобла Переса из кожи вон лезет, чтобы доказать своему народу, что он "не знает" важности для нас всего, что связано с Катастрофой. Телекомментатор спрашивает генерального директора МИДа, почему же Садат посетил, он что "знал", а Муса "не знает"? У Садата, отвечает "дипломат", были более компетентные советники. Еврейская дипломатия эту пощечину проглотила бы (из гордости шубу не сошьешь), но народ "еще не готов", скандальчик назревает, поэтому бегут к Мусе, уговаривают, мол, войди в положение, народ у нас еще дик, и Муса смилостивился: "Распорядок дня у нас очень плотный, но мы в этот музей детей, да? (оборачиваясь к сопровождающим израильским дипломатам), ну, как его? памяти детей? да? вот, так мы его посетим." Музеон еладим. Звучит и как "музей для детей". Отхлестал жидов по брылям, а наш МИД вне себя от гордости и радости: инцидент исчерпан, можно даже похвалиться проявленной "твердостью". На Севере идет, по официальному, хоть и сквозь зубы, признанию, настоящая война, в которой мы терпим поражение (вчера еще солдат погиб). По признанию военных инициатива у противника, мы сидим в крепостях и ждем удара, похоже вся армия уже перешла на стратегию "шмиры" (охраны), сонный и расхлябанный вохровец - вот тип еврейского вояки, и удары не заставляют себя долго ждать. Народу объясняют, по отработанной схеме, что тут ничего не поделаешь, борьба за мир требует жертв, что "окончательное решение" может быть только в рамках общего мирного урегулирования с Сирией, тогда сирийцы там сами наведут порядок. Палестинцы по такой же схеме уже порядок наводят. Видеть это тотальное разложение нестерпимо больно, горько и страшно. Люди, которые шли в газовые камеры, до последней минуты верили, что их ждет "душ", срабатывал все тот же психологический механизм: легче рассчитывать на милость, чудо, логику, на что угодно, на кого угодно, кто прийдет извне и спасет, чем брать на себя риск борьбы, риск войны. И, как ничтожный процент шел в начале века в "сионисты", так и в немецких загонах, ничтожное меньшинство шло в партизаны, а большинство мирно трудилось, "жило", даже развлекалось (в образцовом загоне Терезинштадт были театры, искусство, богема...), и мирно ждало "акций". И сегодня еврейский народ, вооруженный до зубов, мирно трудится, "живет", развлекается, ожидая очередных арабских "акций". Раньше "брали" одного-другого, теперь, с помощью "адских машин", берут десятками, но еврейские миролюбы объясняют (всенародно, публично, и рот им не запаяют!), что это болезненно, но не смертельно, зато нация выживет, ведь мы идем к миру, вот-вот уже. Эти миролюбы публично требуют от народа готовности приносить жертвы, искупительные, хотят откупиться ими от молоха войны, а какая альтернатива, спрашивают они, вернуться в Газу? То есть вернуться в замкнутое кольцо войны? Нет уж, лучше мирно умирать. Жертвы мира им милей жертв войны, милей... Так что же, евреи - народ трусливых приспособленцев? Да, конечно. Но не потому, что они, так сказать, биологически трусливей, чем скажем англичане, полагаю, что нет. Суть в том, что евреи трусы идеологические. Это совершенно принципиальная позиция, философия выживания. Принять на себя ответственность за собственную смерть, решиться воевать за независимость - есть героическое решение. Героизм же еврейству чужд. В национальном воспитании нет такого понятия. И, соответственно, нет понятия чести. У европейцев, у арабов, у турок, у монголов, да у всех было рыцарство, был культ воина, были мифы о доблестях, о подвигах, о славе. Но нет этих "сказок" в еврейской мифологии. (В библейской есть, хотя бы миф о Самсоне.). По весне сионизма еще цвели легенды... Но сионизм, этот экстаз воли, выдохся, сошел на нет. Во всю идет развенчание мифов (во имя якобы научной добросовестности, а на самом деле с целью "идеологического обеспечения" капитуляции, выдаваемой прогнившей верхушкой за "мирный процесс"), осмеяние мифов вообще, будто это государство - не результат победы великого мифа о возвращении. Жизнь индивида лицемерно провозглашается высшей ценностью. Лицемерно, потому что к жертвам террора относятся, как стадо крупнорогатых к своим случайно зазевавшимся и попавшим в пасть хищника членам стада, с равнодушием статистической неизбежности. (И "богобоязненные" туда же: пикуах нефеш, мол, жизнь человека превыше всего. Превыше Торы? Превыше заповедей? Чего больше в вас, евреи, лицемерия или трусости?) Победа оголтелого шкурничества под маской "борьбы с насилием". Оргия молокан. (Вспомнив, нашел у Хафиза Бухари:"Во имя чести и славы жертвуйте жизнью, всегда будте готовы сложить головы в короне или шлеме, все равно сердце уйдет из жизни...") Впрочем, даже немцы и русские договорились до того, что называют войну (вообще, любую) разрешенным убийством, а армейскую подготовку подготовкой убийц. Сегодня, у некогда сильных, а ныне только богатых наций возникло ощущение, что можно выжить и без героизма, за счет "технологий". Сильно в этом сомневаюсь, потому что если "технологии" можно освоить "по описанию", то героизм утерянный вряд ли вернешь. Завтра любая группа отчаянных террористов, овладев ядерным оружием, поставит на колени весь "цивилизованный мир", для которого уже давно "лучше быть красным, чем мертвым". Катастрофа явилась результатом тотального отсутствия героизма среди евреев, и так ее надо преподавать в школе. Надо преподавать нашу историю, как обреченность на героизм. Человек вообще обречен на героизм. Жизнь индивида несущественна, если она не ради рода или идеи. Иудей, иудей, ты куда - без идей? 2.9.94. Вот посмотрел передачу о Зубкове Валентине, актере. Симпатичный мужик. И загрустил. И подумал: нет, не прижилась моя душа у евреев, не прижилась... Тоски у них нет. А стало быть не понять нам друг друга. Душа моя русской тоской отравлена, и без яда этого, яростного этого наркотика - сохнет, как без ответной любви. А еврейский оптимизм с неустанной деловитостью, особливо оптимизм этот - рвота ходячая. Шесть миллионов сожгли в печах, а они все верят в лучшее будущее, в "новый Ближний Восток", в "йихйе беседер" (все устроится). Будет вам, оптимисты, седер* в братских могилах. Конечно без оптимизма и настоящей деловитости быть не может. Русские деловиты только "из-под палки", потому что в пользу, конечную, глобальную пользу деловитости не верят. Зато они в делах трезвее (игра слов), жестче, подозрительней, воздушных замков не строят. Они консервативны и революций не любят, разве что не прочь побузить с тоски. 3.9. Суббота. Утром пошел в бассейн. Когда вернулся, старший рассказал, что разбил нос своему партнеру, который дискотеку держит, черный (он ему молодняк туда загоняет и обеспечивает охрану, тот еще бизнес, но он деньгами гордится, любит пошуршать тугриками, и я ему давно не указ, вообще запах шальных денег дурманит), тот ему не заплатил, конфликт, угрозы, в общем - уголовщина. Мне не понравилось, что он испугался. Испугался - ладно, это нормально, но нельзя страх проявлять. Тот ему позвонил, сказал, что ездил в больницу, нос сломан, требовал оплатить медрасходы и таким образом "уладить" дело. 350 сикелей. Старший взял и повез. Я ему говорю: ни в коем случае! Обратись к адвокату, улаживай и плати только "официально", и как часть общего официального урегулирования. "Между собой" не пройдет, он увидит, что ты испугался и это разовьет у него аппетит. Но он сильно струхнул, захотелось "быстренько уладить" и "забыть". Да и обидно небось за собственную глупость. Учишь, учишь с дерьмом не связываться. Но очень хочется деньжат, быстро и много. Впрочем он и работает много, сторожем, и учится, и котует где-то по ночам, темп бешеный, на износ. А радости жизни нет, даже какое-то ожесточение... Смотрел австралийский фильм "История женщины", про старушку больную раком. О жути старости. Обиде смерти. "It's not faire!" (Это не честно!) - говорит одна из героинь, молодая сестра милосердия. 'It's not faire!"... Вчера поехали вечером к морю, договорились с Л-ми. Приехали к семи, было уже темно и безлюдно (время на час раньше сдвинули накануне, а мы и забыли). Пошли купаться, вспоминая ночные купания в Неринге. Она глубже чем по колено не заходит - водобоязнь всех предков, от краковских раввинов до франкфуртских менял. Поплескались у берега. Непосредственна и весела, как девочка. Потом я один сплавал. Если белые гребни издалека не набегают, то не видно границ, водяная пустыня кругом мрачно поблескивает, затягивает. Страшно. Потом Л-ы приехали. Мы гуляли с Л. вдоль моря, прибой лизал ступни, и жевали все ту же тему: что народ морально разложился, что всему конец, что сионизм наш был ошибкой, "идеологической зашоренностью", вспоминали знакомых, которые уехали, значительно опередив нас в разочаровании, о том, что энтузиазм, воля к борьбе, незаурядные способности этих людей (при этом мы, конечно, и себя имели в виду) оказались тут невостребованными, и чем способней был человек, чем энергичней, тем больше он конфликтовал, тем хуже уживался, тем труднее ему было свыкнуться, смириться. Вспоминали свою "травму абсорбции", о том, что мы чужие тут в сущности, и останемся чужими, что меня, кстати, уже почти не пугает, уже не могу себе представить, что где-то и с кем-то, то есть в каком-то обществе, я могу быть "своим", хотя именно это стремление было когда-то главным... Вот такой вышел длинный разговор в прибрежной тьме, под шумок прибоя. Его неприкрытая горечь, человека в общем-то преуспевшего, отменно делового, умного, смелого (не на шутку бодался с Империей), породистого, красивого мужчины (жена называет его "патрицием"), была неожиданна и пугающа. Подсознательно хочется, чтоб тебя в твоем пессимизме разубедили. Я даже решил, что он перегибает, что возрастное (он лет на десять старше). Миша Вот так я сидел на окне, видно было далеко вокруг: купола собора в Измайлове, Олимпийский комплекс, пруд у "Севастополя", рядом на пригорке церковь Ильи Пророка (в архитектуре русских церквей - все лучшее, что есть в русской душе, такое непритязательное изящество, почти нежность, в западной архитектуре этого совсем нет, или мне все это от любви кажется? я и грозных, хмурых Спасов русских люблю...), а рядом, подо мной, верхушки тополей, можно погладить... Миша возился с собакой, привязывал ее, потом чай готовил, я открыл крышку старого пианино, попробовал - ужасно расстроено. Потом пили чай, я поднимал с пола книги, рассматривал, одна, маленькая, потрепанная, заинтересовала названием: "Ближневосточные ведуты", с фотографиями грифонов, барельефами богов пустыни. Показал ему фотографию скульптуры хеттского воина - точь в точь знакомый гаражник, "интересно, да?" говорю. "Возьми", - сказал Миша. "Нравица? Бэри, генацвали!" - смутился я и положил книгу на место. "Нет, возьми, я хочу тебе подарить что-нибудь. Возьми. И еще, есть одна певица, ужасно мне нравится, Татьяна Буланова, слышал про такую группу "Летный сад"? Ну, в общем у меня есть две кассеты, одну обязательно возьми. Сейчас я тебе поставлю..." Он долго возился с техникой, тянул провода из угла в угол, чего-то прилаживал, наконец, включил: "И вновь Две жизни существуют. Одна - в которой ты остался..." Настоял-таки на том, чтобы я взял кассету. Потом мы незаметно перешли к нашим сексуальным переживаниям, он увлекся рассказами о своих, как и 20 лет назад, все тоже, все о том же, даже о тех же, ничего не изменилось. Рассказывал про Нину, потом про некую Лену, вокруг которой разгорелась война с Ваней (столетние войны с Ваней), Ваня ее любил, но она вернулась не то к мужу, не то к старому другу, и тут Миша встрял, посредничал, сам увлекся, "ты не представляешь, какие она мне вещи рассказывала, таких откровенностей я еще ни от кого не слышал, что-то пугающее, она хотела переехать ко мне, но мне было жалко Ваню..." И как она все-таки ушла к бывшему, и с Ваней была жуткая ссора, Ваня хотел его убить, а он лелеял планы мести ей, разоблачения, публикации ее откровений, но Вика отговорила его. А совсем недавно он узнал в новой кассирше в соседнем магазине однокашницу, в которую был влюблен в школе, она хотела стать актрисой, была очень своеобразная, талантливая, но неудачно вышла замуж, ужасно влюбилась, муж бил, много лет, пока всю любовь не выбил, теперь одна, они встретились несколько раз, "и вот странно, казалось бы так удобно ебаться, и живет рядом, но что-то мешало", потом встретил ее с каким-то парнем, тоже старым дружком, и легко можно было отбить, но стало жалко дружка... Я по старой привычке пустился в психоанализ его жалости к дружкам, по ходу этого нашего бесконечного разговора (мы можем встретиться еще через 20 лет, стариками, и продолжить его с той же точки что прервали, будто вчера расстались) вышли погулять, дошли до "Севастополя", перед прудом, над туннелем подземки на "Черкизово", вырос уродливый земляной вал, сам пруд отвратительно грязен, заброшен, да и кинотеатр одряхлел, обшарпанный, изрисованный авангардными фресками, коллективным творчеством молодого-незнакомого племени, взыскующего самовыражения. Зато церковь на пригорке обновили, я возжаждал запечатлеть, сфотографироваться (Фромм считает, что страсть фотографировать - симптом некрофилии), но Миша на фоне церкви не захотел, предпочел чуть в стороне, из деликатности к религиозным чувствам прихожан, Храм же ведь, нет, он не верует, но полгода назад , в период тяжелой депрессии, ходил на такой "кружок" интересующихся религией, вообще-то он даже подумывал креститься, останавливает только, что еврей, ведущая кружка, умница, говорит: ничего, и Иисус был еврей, но он пока не решился еще, но и фотографироваться на фоне Храма не хочет. Мимо церкви, по слякоти и хляби размытых дорожек, прошли в поросший бурьяном парк, я узнавал эти дорожки, покосившийся забор катка, высокая трава была мокрой, выгуливали больших собак, Миша занимался теперь психоанализом моих бредней: "Я помню одно место в твоей повести, где ты, твой герой, травмированный неудачей со своей первой женщиной, говорит себе: теперь все, значит я никогда не буду кинорежиссером", я засмеялся, покраснев наверное, потому что вспомнил, и то место в повести, и то шестнадцатое лето моей жизни, могучий дом на Миллионной, совсем рядом с Зимним, в котором лишился невинности на кровати с клопами, с тридцатилетней фабричной девушкой, которую звали сногсшибательно: Жанна Желаннова (муравейник коммуналки, старуха мать на сундуке в углу...), я подцепил ее в электричке, в которой возвращался в Ленинград с кузиной, кузина была кажется влюблена в меня и была невольной свидетельницей самых "роковых" моих встреч.., да, значит мне не быть кинорежиссером, и я опять, устыдившись чего-то, засмеялся, а Миша все развивал это высказывание в сторону присущего мне императива власти над женщиной, коему мешают мои сексуальные недостатки, насколько он помнит, в прошлом меня беспокоила преждевременная эякуляция, кстати, как у меня с эякуляцией, по-прежнему столь преждевременна? Через день-другой я позвонил ему утром, попросил подойти, помочь книги отбуксировать на почту. 14.9 Вчера был день рождение у Аси. Болтовня под закусь. О нашей политике, о российской, колоритные рассказы Паши и Ф. о русской мафии, Ф. воздушные линии натягивает с русской глубинкой, аж в Хабаровск: "поехали на разборку, с нашей стороны человек семь и с ихней, ругань на полчаса, пасть порву и т.д., главные молчат, тут наш главный ихнему говорит: вот тебе мой номер телефона, позвони, уладим, и разошлись, а на другую разборку меня не взяли, так там восемь человек положили из автоматов, в газетах - ни писка" (когда я у Паши в Москве был, к нему зашел его приятель, мы сидели на кухне, приятель достал золотые николаевские рубли, маленькие, стертые, десять ровно, разложил на столе, просил по куску за каждый, Паша глядел в лупу, причмокивал, по ходу дела о жизни болтали, кого-то из общих знакомых убили, "говорил я ему - не зарывайся", рассказывал приятель, "а ты не боишься?" спросил Паша, "не, я теперь уже ничего не боюсь, вот заводик запустим - это полтора миллиона в год, все жуют и все довольны, я с этого дела дай бог четверть буду иметь, зато спать спокойно, главное не зарываться, на всех хватит"), восхищались русской телевизионной рекламой, особенно АОМММ, Голубковым - новеньким национальным героем. Дети смотрели фильм о Майкле Джексоне. С детьми нестыковочка. Разбегающиеся галактики. Утром пошел в наш Хулонский лес собаку выгуливать. Пусто. Не жарко еще. Поливалки брызгаются, шиповник облетает. Есть куда убежать взгляду, к дюнам, полям через шоссе, горам вдалеке. Все вроде красиво... Миша Мы стояли одни на остановке, уже долго. Автобусы ходили по случаю, как в деревне. Собрались тучи. По направлению к нам, пошатываясь, перешла дорогу деваха неопределенного возраста, наверное все-таки молодая, лет двадцать, но сильно помятая и ободранная, несла почти на вытянутой руке трехлитровую стеклянную банку, на дне которой качалась желтоватая жижа с легкой пеной, сначала подумалось "мочу на анализ несет", но потом догадался: пивком в соседнем ларьке отоварилась, на опохмелку. - Ребят, - язык у нее заплетался, - давно ждете? Не люблю пьяных баб, дремучий страх перед ними, еще охуячит тирсом... - Давно,- ответил приветливо Миша. Он, из того же страха, старался их, как наших меньших сестер, любить. Деваха, покачнувшись, кивнула. Постояли немного молча. - Маме несу, - сказала деваха, кивнув на банку. - Вчера, блин, гудели-гудели... Теперь плохо ей. Говорила я ей: не надрызгайся... А вообще, блин, жисть - тоска. - Да, - грустно подтвердил Миша. Это было неосторожно. - Во, - оживилась собеседница, - я и говорю... - Буржуи пухнут, а народ, блин... Миша и тут сочувственно кивнул. - Ребят, меня зовут Наташа, - распоясалась деваха. - А вас как? - Меня Миша, - сказал Миша. Настала моя очередь, и я, преодолевая неприятное ощущение ненужного, глупо спровоцированного саморазоблачения, выдавил из себя, наверное, даже усмехнувшись: - А меня - Наум. - Мы - евреи, - выпалил Миша. Деваха покачнулась, по-королевски выгнула бровь и решительно заявила о своей веротерпимости: - Ну чо? А кого ебет чужое горе? Миша радостно оживился, и уж было собрался поведать попутчице о еврейских горестях, но та, как старая любовница, перебила его о своем, как они вчера гудели, кто кому врезал и вдруг: - А вы мне позвоните. Ну? Запиши телефон. Я дал Мише ручку и он записал ее телефон на спичечном коробке. - Позвони, - сказала она, обращаясь только к Мише. - Да? - Хорошо, - сказал Миша. И менада, неуверенно ступая, отчалила. Словно лодочка в легкий бриз. - Представляешь?! - Миша возбудился. - Пьяная, вс°, а какая природная деликатность?! Почувствовала, что выпадает из разговора, и оставила нас одних. Я не стал спорить. - И дала бы запросто. Я б ей уже сегодня позвонил, если бы ее дружков не боялся. Подъехал автобус. 17.9. Все страшней презрение к людям, к их убогим заботам, все настоятельней необходимость "оправдать" жизнь, оправдать свое, именно свое бытие, и все трудней, все мучительней жить, даже не потому, что смерть вот-вот раздавит тебя горькой, необъяснимой обидой, нет, не смерть, а невозможность радоваться жизни, вот так просто, по-отрочески, радоваться ее полнокровию, ее заманчивости, ее таинственности. Все больше, как улитка в панцирь, уходишь в себя, в бесконечную внутреннюю спираль, чтоб там, в ее безотрадных глубинах окуклиться и усохнуть, оставив лишь скрученный в последнем выкрике прах. И уже говоришь только с бумагой, только с самим собой, с тем в тебе, кто, чем дальше, тем реже оставляет в покое... Миша Народу на почтамте было мало. Пока я возился с книгами, Миша сидел у окна, глядя на шумную Мясницкую, еще памятную, как Кировская, выходил покурить, возвращался, наблюдал за мной, опять выходил смолить. Отправив посылки, я нашел его на ступеньках почтамта, лицо в облаке дыма (раньше он так много не курил), мимо - мутная река людей и машин. Еле уговорил пройтись до "Книжного мира" и спуститься в метро на Лубянке, он требовал немедленно ехать, иначе опоздаем, я уверял, что не опоздаем, а если и опоздаем на пять минут, то Белашкин все равно явится на час позже, а если свершится чудо, и он будет вовремя, то, подумаешь несчастье, подождет пять минут. Такая постановка вопроса была для Миши просто оскорбительной, он считал опоздание страшным грехом неуважения, и согласился на мои уговоры только потому, что "понял, наблюдая за тобой: книги - твое настоящее сумасшествие. Ты бы видел себя со стороны, - с наслаждением анализировал он мое состояние, - глаза безумные, остервенелые..." - Да, - говорю с притворной печалью, - страстишка. Это верно. В "Книжном мире" я с торопливым сладострастием потолкался, вновь набил выпотрошенные на почте сумки, и вознамерился дальше идти пешком аж до самой Библиотеки Ленина, по дороге пускаясь во все книжные, но Миша уперся: опоздаем. В результате мы приехали на пять минут раньше. Собирались тучи. Спрятались под навес, держа под наблюдением вход в метро, у тонких граненых колонн, среди битых бутылок, рваных пакетиков, раздавленных пластмассовых стаканчиков, окурков - прям помойка. Миша все глотал, глубоко затягиваясь, едкий, злой дым своих самокруток. Тучи стали совсем грозными. Бодро взбежав по ступенькам, прошла мимо женщина, пожалуй около пятидесяти, плотно сбитая, в сиреневом платье, обтягивающем, коротком, взгляд молодой, дерзкий, глаза тоже сиреневые, белая прядь, как петушиный хохолок... Я засмотрелся, она обернулась. А Миша говорил о том, что нежелание участвовать в жизненной сваре, в борьбе за выживание, в борьбе за женщин - необходимый выбор для честного и доброго человека, о непротивлении злу, а я утверждал, что всякое непротивление, отстранение, есть результат непреодоленного страха и неприспособленности к жизненной борьбе. В основе - животная слабость, обреченность на уровне инстинкта, потом уже возникают от безвыходности соответствующие идеологичекие установки, но отстраненность - это просто трусость, и надо уметь себе в этом признаться, гуманизм конечно дело замечательное, теперь и у слабых есть возможность выжить, но пусть слабые при этом не считают себя солью земли и не строят религий для всего человечества... - Если бы тебя меньше волновала эта твоя несостоятельность если бы ни эта твоя бесперспективная установка на героизм ты бы гораздо больше преуспел творчески ты всегда насиловал себя воевал со своими страхами не давал волю своей сути своей слабости и не корчился бы в муках самопрезрения и не женился бы на Римме во всяком случае давно бы развелся и не уехал бы был бы свободен... как я. - Да вот именно вот именно страх стать таким как ты страх отщепенства но не как отстаиваемой социальной позиции а как капитуляции ухода бегства да да позора бегства я боюсь больше всего не хочу уступать перемалывающим жерновам жизни стать мукой я помню твой рассказ о том как ты подростком гулял у пруда в Останкино и там на берегу молодые мужики играли в волейбол и ты подумал что только бы не стать такими как они а потом лет через десять ты снова гулял там случайно снова увидел как они играют в волейбол вспомнил и с радостью подумал что ты таким как они не стал и не уходить смиряясь с пинками прячась а завоевывать право на отделение остаться в этом отделении независимым я недавно около нашей школы есть детсад наблюдал игру-возню малышей на площадке все бегали, прыгали толкались дрались как обезьяны а один сидел в углу с кубиками и что-то строил и к нему все время подбегали шпыняли его разрушали его постройки а он только забивался все глубже в угол площадки становился все безропотней все равнодушней и все строил и строил уже скорей из упрямства а не вдохновения и мне было ужасно обидно за него и некому было его защитить защитить его право строить в углу вот у меня на работе самые трудные проблемы в тех классах а там уже лбы лет по 16-17 где среди толпы обезьян найдется один который хочет учится и он смотрит на тебя с надеждой ты его последняя опора и защитник в толпе дикарей и вот начинаешь бороться со стихиями бороться со всем классом злобно безнадежно бороться за его право учиться за этот росток человечества чудом мутации появившийся в обезьяньем питомнике так и во взрослой жизни если ты не бежишь со стадом хочешь выйти на обочину станешь добычей хищников а то и свои затопчут сметут и даже не из-за особой жестокости жестокие люди это люди которые сознательно ненавидят "отстраняющихся" а может они видят в них какую-то угрозу для себя или жалеют по-своему желая "научить" их жизни вообще жизнь сама по себе вещь жестокая аморальная то есть она вне морали... - Нет, - перебил Миша, тоже возбудившись, - я не за полное непротивление я готов взять автомат и перебить всех кто хочет помешать малышу играть в своем углу в свои кубики... - Да я тоже готов я вообще готов всех перестрелять (мы засмеялись) я не против того чтобы кто-то играл в своем углу наоборот но я против того чтобы отключались не замечали действительности игнорировали ее меня это раздражает трусостью не только физиологической но и интеллектуальной я помню как мы спорили об антисемитизме ты говорил что тебя не задевает когда тебя обзовут "жидом" объясняя это нормальными житейскими неурядицами и недоразумениями а меня раздражало в этом твоем подходе нежелание признавать действительность которая есть тотальная безусловная ненависть жалкие старания не замечать ее потому что не знаешь что же можно ей противопоставить а ничего только зубы и когти... - Да, антисемитизм - это сильный аргумент... Я вижу что и ты помнишь кое-что из наших тогдашних разговоров что я как раз позабыл... Но вот насчет трусости... все эти геройские комплексы булгаковщина чушь все это не бойся быть трусом не бойся своей слабости не бойся того что ты шизофреник ты же шизофреник как я не бойся быть человеком... Вдруг вдохнуть терпкий, дурманящий запах каких-то трав-цветков из новогоднего букета, углубившись в статью Иосифа о Лосеве, о спасении религиозном, эстетическом, "умном", и подумать радостно, что вот, ощущение этого запаха и есть ощущение жизни, которого так не хватает. А не я ли сам виноват, не я ли так обустроил свою жизнь, что влачу дни не любя (не вкушая запахов), не выходя из норы, ни с кем не общаясь, ни на что не решаясь, компромиссы, компромиссы, да, и об этом, о компромиссах мы тогда говорили с Мишей... В келью вторгаются грубые голоса еврейских простолюдинов, худший тип простолюдина, наглый до храбрости. Наглость, невежество, грубость, самодовольство - вот он "новый еврей", взлелеянный свободой и национальной независимостью. Вчера были у Марика, гоняли в шахматы, оторвались послушать Биренбойма, он играл 2-ой Брамса, дирижировал молодой израильтянин кавказской национальности, старательно открывавший рот пошире. - Протеже, - прокомментировал Марик. - И у вас, - говорю, - в музыке - интриги, война за места, кумовство, проституирование... - А ты как думал? "Посмотри, как он напряжен (о Биренбойме, в начале)... Боится... Бездарь (на дирижера)! Все время запаздывает! Интересно (опять о Биренбойме), на кого он так злится, на него, или на себя... ("На Брамса", - вставил я, но шутку не оценили.) Ну зачем он берется за такую сложную вещь! Посмотри, как он вымучивает! Вот... это - самый трудный кусок... Конечно он - талант, усталый, но талант. Вытянул. Это же гениальная вещь, особенно третья часть, я ее очень люблю. Какая мощь!" Любовь к мощи в музыке я не разделял, но спор был не по чину. И. сегодня звонил, жаловался "на жидов": "все кляузники, фискалы, наушники, пидарасы гнусные", видно на работе что-то не складывается. Миша Да, мы еще много говорили о компромиссах, я ненавидел их, а Миша считал признаком человечности, и он мне врезал:" Хочешь я тебе объясню эту твою склонность к компромиссу, и почему она так тебя раздражает? Это тебе любой психолог, даже не психоаналитик скажет, помнишь, ты рассказывал мне, как твой отец время от времени думал пуститься в разные рискованные предприятия, связанные с возможной отсидкой, и как твоя мама была категорически против, как она боялась риска, и как она всегда тебя опекала, берегла от жизненных передряг, так вот, эта твоя склонность к компромиссу, к уступке, это от матери, и когда материнское в тебе побеждает отцовское, ты злишься, потому что, как ты рассказывал, она даже от смерти отца тебя оградила, она на самом деле всегда тебя от него ограждала, инстинктивно..." От внезапно разверзшейся бездны меня затошнило - он был прав, я вдруг осознал, почему после ее приезда, когда она приехала одна, похоронив отца, я испытывал к ней необоримое чувство раздраженного, неприязненного отстранения, я не мог заставить себя обнять ее, или поцеловать, или погладить, и я вижу, как ей этого не хватает, но ничего не могу с собой поделать, и тем сильнее мое чувство долга по отношению к ней, а свои сыновьи долги я плачу, как мне кажется, исправно, но... все равно злюсь на ее безропотность, уступчивость, а отец был бесстрашным, пугающе бесстрашным, в бесстрашии есть что-то безумное, бесстрашие, которое мне не дано, и о котором я тоскую, как об отце... А еще он спросил меня: "А есть ли там с кем поговорить вот так, о последних тайнах бытия?" "Нет, - говорю, - вот так - нет, не с кем, да мне кажется, что там у нас вообще не принято разговаривать по душам, я уж и забыл, что это вообще возможно." "Не может быть, - удивился он, не может быть, это ужасно!" Он опустил голову. "Да вообще, - говорю, жизнь там куда рациональнее..." "Ну, вот что, - опять попытался он, вот ты рассказывал про школу, ну что, никто из молодежи, ни с кем из молодежи тебе не удалось за все эти годы поговорить о жизни?" "Да о чем ты, какая молодежь, о какой жизни, - горько скривился я, - за все годы у меня был только один такой случай, и он действительно меня ужасно обрадовал и запомнился, я преподавал в одном классе, в девятом, "бейсик", такой язык программирования, ну и основы программирования там, так вот, вижу один парень на задней парте меня не слушает, читает чего-то, и, когда я диктую, не пишет, в общем отключился, и знаешь, что интересно, вот странно так, он был очень на тебя похож, вот, так я подхожу, он книжку спрятал, а я говорю, дай посмотреть, он так глаза на меня поднял и отдал, я смотрю: "Преступление и наказание", вообще-то они это по программе проходят, но все равно, думаю, раз такое дело, читай, и вернул книжку, он очень удивился, а потом, в конце уроков, я шел домой, он меня перехватил и стал о России расспрашивать, о Достоевском, я ему объяснял там разное, да... и, что странно, он восточный был мальчик, из Ирака, и ужасно на тебя похож... Мишу рассказ взволновал. Он долго молчал, а потом сказал: "Ты знаешь, где, мне кажется, вот эти люди, с которыми поговорить можно, люди, которых духовные проблемы интересуют, концентрируются? Среди религиозных, вот туда тебе надо." "Да, - говорю, - верно, я, когда пересекался с ними, ловил себя на том, что они похожи, и так же книгами все забито в квартире, и действительно любят поговорить о жизни... но... это - другой мир, и, к сожалению, все в этом мире у них чересчур ясно, они готовы учить, но не спорить." Миша понимающе и печально кивал. Крапал дождь. Белашкин опоздал ровно на час. Поболтав с ним о своей книге, дело было вроде на мази, Миша отчалил, а мы с Андреем пошли к Кропоткинской, там у него был на бульваре прилавок с книжками, торговала симпатичная девица, он чего-то выяснял у нее, я гулял вдоль раскладных столов, купил "Сопротивление и покорность" Бонх°ффера, вдруг ливень пошел, короткий козырек навеса не спасал, книги мокли, кое-кто из соседей стал собирать манатки, но дождь также внезапно перестал, мы купили по пиву, издатель долго не давал себя угостить, и пошли в "Эйдос", впрочем, это уже рассказ про Белашкина. А еще мы были с Мишей у Вики на вечеринке. Была ее подруга М., филолог, редактор в каком-то журнале, под 50, но еще сексапильна, был Боря Колымагин, который о Мише статью написал к подборке в первом номере НЛО, Боря был незатейлив и мне понравился, был философ С., чуть ли не членкор, лет под 60, державшийся запросто, пока М. не стала проявлять признаки дозированного благожелательства к моей особе, он тут же оживился, засыпал остротами, стал даже ехиден. Когда я рассказал о том, как мне 3 года назад, во время путча, приснился ночью страшный сон, что кто-то стоит у моего изголовья и поднимает топор (о, это было так явственно!), он съязвил: еврею из Израиля снится в Москве сон Грин°ва поразительно! Потом Вика мне по секрету сообщила, что он в М. давно и безуспешно влюблен. Миша вынимал из него душу насчет кантианства, поскольку С. официально причислил себя к последователям кенигсбергского чудика. Отбивался он от Мишиных наскоков деликатно. Вика неустанно хлопотала, создавая атмосферу, потом муж пришел, потом добыли у соседей гитару, и я, немного смущаясь, попел Есенина, удивляя публику, "что такое поют в Израиле". Ну, говорю, я вам не скажу за весь Израиль, а я вот - пою. А вообще, был не в ударе, какая-то чинность имела место быть, какая-то претензия на тусовочку. Миша, конечно, категорически выпадал из ансамбля, что вынуждало Вику давать пояснения о его трудной жизни и маргинальной позиции, вокруг которой пошел с С. горячий, нефилософский спор, в общем Миша старался не подкачать и вел себя вполне маргинально. 9.9. Д. позвонила. "Хочешь сыграю?"- и давай ржать. А у меня так напрягся, что смеяться больно. Это с тех пор, как я тогда затащил ее перед репетицией на квартиру, которую снимал для И. Дурацкая должность: перед репетициями их вздрючивать. Когда душ принимал, слышу что-то грустненькое выпиливает, вошел в комнату: лежит голая на диване и выпиливает. Я озверел, думал хуй оторвется, так натянулся, а она все смеялась и брыкалась, а потом говорит: "Я тебе условный рефлекс сделаю, знаешь анекдот: скрипач к доктору приходит и говорит доктор просто ужас что со мной не могу играть как только начинаю член встает неудобно ну-ка сыграйте говорит доктор ну тот заиграл и говорит о доктор и у вас встал так ты ж играешь как пизда..." Миша С вечеринки мы ушли с Колымагиным. Долго прощались в метро. Колымагин простой и хороший мужик, раньше бы непременно захотелось продолжить и углубить знакомство, а теперь... Я понял вдруг, что отвык от России, отвык от русских, пожалуй навсегда. И слава Богу. Миша решил проводить меня от Черкизово. Мы шли пешком. Иногда накрапывало. Я побуждал его написать статью о книжке для "Ариона", в который, с подачи Гандлевского, у меня взяли подборку. - Если бы я взялся написать, я бы написал не только о книжке, а вообще о тебе, о том, что ты живешь на побережье, я всегда мечтал жить у моря... - Ну давай, вперед! Все что в голову влезет, хоть про преждевременную эякуляцию! Посплетничали о вечеринке, о Вике, о С.: "первый раз разговариваю с настоящим философом, профессионалом, не ухватишь его, в чем она, его философия-то, ну Канта изучил - это похвально, а себя-то как спасать?" Вику, слегка раздражавшую меня светской суетливостью, Миша защищал:"она добрая." Рассказал ему, что Гандлевский дал мне свой роман прочитать, и как меня этот роман разозлил, больно ловок, не роман, а сплошное политическое маневрирование, все эти подчеркивания с кем пил в охотку, с кем нехотя, а с кем и сесть-то за один стол западло, кокетливое самобичевание: "умишко куц, воля слаба", про "собственноручно испохабленную жизнь", да чего ты, блин, паясничаешь, знаешь же прекрасно, что умишко твой не куц отнюдь, и воля не так уж слаба, и в жизни все у тебя нормально: квартиру справил, дети замечательные, друзья знаменитые, и жена любит и уважает, и слава литературная на пороге уже, глядишь, и Букера, как задумал, получишь, какова литература, таков и Букер. Да и какую бы "хорошую" жизнь ты хотел? Вот череп тебе вскрыли, а "гиблая, слабая, нехорошая жизнь" твоя в чем изменилась-то? На веранде деревянной избы, где этот книжный магазин, "25-ого октября" что ли, мы с ним ливень пережидали, веранда дачная, и он рассказал, как ему сообщили про опухоль, как уже решил, что - все, как череп вскрыли, и как почувствовал, что будто родился заново, ну и что? да хоть еще десять раз родись заново! Вс°, вс° раздражало: залихвацкий тон "пропащего", все эти "зарядили банки", "оттянулись", "понавешали с пьяных глаз", да с "пердячим паром", и при том мы с понтом Ортегу-и-Гассета да Мартина с Бубером почитывали, есть в этом какое-то юродство, ей богу, а я юродства русского терпеть не могу, этот ритуал "пропащей" жизни бездельников, попрошаек и пьяниц, в глубине души почему-то считающих себя солью земли, а свою жизнь - освященной великими целями и полной поэзии, власть только вот, подлая, на корню срубила, и ведь, главное, никого при вс°м при том не обидел (разве что Евтушенко, ну так того только что ленивый не отлягает). Да лучше партию родную прославлять, ей богу. А задело меня, конечно, в чем я Мише не признался, что поиграть не взяли в литературные игры, в персонажи не пригласили. Когда он описывает, как пил с Кибировым во время путча, как другая знаменитость позвонила и сообщила, что путчистов в аэропорту арестовали, и какие они там значительные или ироничные вещи говорили, и как в этот день, это был третий день путча, он своим "спиногрызам" двухэтажную кровать сколачивал, они переезжали, то обо мне, как сидел с ними тогда и пил, генеральскими консервами из гост. "Спутник" потчевал, и сто долларов, которые ему позарез на ремонт нужны были, отстегнул за книги (тут некая еврейская неувязочка вышла с коэффициентами перевода, в общем, поторговался я, о чем вспоминать немного стыдно), и про танки на улицах докладывал - с утра, как угорелый, носился в тот день по городу: в Сохнут на Полянке, в штаб на Ленинском, в посольство, даже в редакцию "Юности" забежал с Сашей Макаровым, на Полянке была паника, врывались плачущие женщины и требовали немедленно отправить их в Израиль, потом заскочил Бума-кибуцник: "Эйзе цава дафук!" /"Ну и армия недоделанная! Видел танковую колонну, так штук пять насчитал на обочине, чинят, как после боя!"/; и кровать спиногрызам помогал сколачивать, обо мне, понимаешь, никакого упоминания, обидно, где ж историческая правда, документальная точность? (А я даже малость какую, совсем неизвестно "на что работающую", боюсь выкинуть, все в кучу валю, не верю я ни в какие композици, дневник, так дневник. Погром так погром. И ту беседу помню: Кибиров: Ты знаешь, что Лукьянов стихи пишет? Гандлевский: И Язов пишет. Кибиров: Ну, Язов даже печатается. Гандлевский: Язов просто большой поэт. Тут я похвастался, что познакомился с Сапгиром, но это почему-то никого не порадовало. Кибиров заметил, что "Геня - бабник, как выпьет, лезет лапать". Гандлевский пожаловался, что прям при нем Лену лапал, "просто больной". Может разница в том, что мне не "литература" важна, а очень хочется живую жизнь зацепить "пером", как багром, и вытащить эту рыбу трепыхающуюся на берег текста. И все хочется с самим собой разобраться, в себе. И если это настоящая шизофрения - я не боюсь, Миш, я уже не боюсь.) Но Миша в объяснениях моего раздражения на Гандлевского не нуждался, он "эту кодлу карьеристов" давно и гневно ненавидит. Считает, что и смерть Сопровского на их совести, что, мол, не вышли его проводить в дупель пьяного... Да, наверное и зависть тут, но не только, и не столько. Просто нам "спасение" подавай, а карьера - это мелко, неинтересно, унизительно даже, нет, никто от карьеры не отказывается, но не душу же за эту погремушку продавать. (Да, пусть высокопарно, пусть глупо.) Конечно, бывают "спасители" бесталанные и талантливые карьеристы, ну так что? Разве талант спасает? Спасает только правильная идеологическая установка. Так и до дома дошли. Я пригласил зайти, хоть и устал от разговоров. Попили чайку. Поговорили о Иосифовой эстетике "спасения", но уже вяло. Миша сказал, что она хороша в лучшем случае для трагедии, а куда скульптуру девать, живопись, музыку? И нельзя сбрасывать со счета прикладной характер искусств. Опять засмолил. Уходить ему не хотелось. Из окна тянуло дождевой прохладой. Наслаждение, а не воздух. Кладбищенские тополя стояли стеной. Кладбище вон там, за забором, тропинка ведет. Хорошо о "спасении" философствовать, а на деле, вон, поди ж ты, спасись... И, глядя на Мишино лицо в клубах дыма, ему-то что, запаха не чувствует, вдруг любовь-жалость нахлынула, неожиданно. Может эта, вот такая, наша дружба - и есть спасение наше... В последний раз я видел его за день до отъезда. Он опять зашел утром, и мы пошли пешком к метро "Черкизово", через Сиреневый сквер, где Иосиф дворничал. Я все хотел выспросить у него, аккуратно, чтоб опять не разозлиться, как он в это дело с квартирой теткиной влез, как его Зюс натравил, и что Зюс хотел собственно? Это было уже неважно, но поскольку обидно очень, что дело с квартирой лопнуло, хотелось, да, хотелось квартирку в Москве заиметь, хотя, если здраво рассудить - нахуй она мне, отроческие мечты о "хате", так что тянуло выведать про змеюку-интригана Зюса. Миша Зюсика защищал, чем выводил меня невольно из равновесия, потому что к брательнику своему двоюродному и, можно сказать, другу детства, я дышу неровно, неровно... В общем, никаких разоблачений я не добился от Миши, только желчь вскипятил, а пока, за разговором, мы к этому жуткому базару, к этому "чреву" на площади подошли, ко входу в метро не протолкнешься, и тут вышло наше время, хоть плачь, и мы, похлопав друг друга по плечу, пожав руки, не глядя в глаза, расстались. Взялся за книгу Аниты Шапира "Херев айона"("Меч голубя"). Подзаголовок: "Сионизм и проблема силы. 1881-1948". По-английски звучит еще лучше:"Земля и сила". "Land and power". Испугались, что чересчур сильные стали. Вот я и решил в генезисе этого опасения разобраться. Может я чего в жизни не понял. "Пинскер видел в готовности еврея примириться с тем, что его колотят время от времени, отсутствие самоуважения... Биренбаум отмечал трусость, как одну из позорных черт евреев, обнаруживающую полную потерю самоуважения. Тема чести евреев все время находилась в поле зрения и внимания Герцеля, когда он обдумывал "Еврейское государство". Он был настолько обеспокоен презрением к евреям, что записал в дневнике о необходимости смертельной войны еврейскому юмору (?!!!), склонному к самоиздевательству. Внушение представления о евреях, как о нации уважающей себя и пользующейся общим уважением, было одной из центральных задач молодого сионистского движения." Интересно, что "борода" сказал бы о Пересе с Рабиным. "Образ чести был испокон веку связан со статусом воина. Того, кто способен постоять за свою честь и даже пожертвовать ради этого жизнью". Верно, голубушка. Так почему же этот статус так вам, левым, не нравится? Али честь не дорога? Цитата из статьи в "Восходе", за 1906 год, критикующей сионизм: "... кто нам гарантирует, что в один черный день, под предлогом какой-нибудь войны, который так легко найти, не поднимется на нас страшный тиран, под покровительством которого мы окажемся, и не сотрет нас в порошок? Или что не появится новый Тит, и на базе тех же международных соглашений, уважать которые нас учат новые и новые войны, не рассеет нас опять по земле?... Кто нам гарантирует, что какой-нибудь сосед..." За душу берет этот трусливый вопль столетней давности. Сегодняшние тоже, все бояться остаться без покровительства его превосходительства дяди Сэма. А может это во мне говорит привычка к имперскому мироощущению? Интересно, что самые рьяные еврейские террористы сегодня - репатрианты из Америки, именно в силу такого господского мышления не понимающие, как можно терпеть оскорбления, и тем более покушения, со стороны каких-то погонщиков верблюдов? А "русские" со своей имперской гордостью сидят тихо. А ведь тут на пятачке от Иордана до моря за полсотни лет встала настоящая маленькая империя: букет наций, религий, общин, культур, совершенно друг другу враждебных, но объединенных еврейской всеядностью и полной волей для каждого обогащаться. Кстати, и - языком. Вот все говорят, как о чуде, что, мол, евреи, через тысячи лет, вновь заговорили на древнем своем языке. Это еще полчуда, а вот что арабы на древнееврейском заговорили, как на родном, или чистокровные русичи по-жидовски чешут, вот это действительно... Эх, заделать бы тут новую эллинистическую от Нила до Евфрата... Я, конечно, не все вспомнил из разговоров с Мишей. Вот всплыл вдруг отрывок: - Когда в депрессии, то судорожно ищешь за что бы зацепиться, чтобы выжить, за какие воспоминания?, за чье сочувствие?.. И поэтому неинтересно писать ни о чем кроме вот такого пособия для отчаявшихся... Гляжу на Вуди Алена ("Война и мир") и вспоминаю джихад* Герцеля еврейскому юмору. Смехуечки над героизмом. Героизм действительно чересчур серьезен, прям обхохочешься... Но вот показали по ТВ толпу жизнерадостных школьниц, которых выгуливают по плато Голан, как они хором: "Лучше отдать, чем будут гибнуть люди", хоть одна добавила: "наши солдаты", и не до смеха. Вырежут же вас, дочурки, изнасилуют всем полком феллахов и кишки выпотрошат с вашей жизнерадостностью и заботой о людях. А мужичков шустрых-юморных подомнут и на кол. Потому что человечные очень. И бесшабашности, что гнилью дана, нет у них. Любят, любят жизнь. Больше принципов. Вот и получается, что впору брататься с почвенниками, антисемитами и всякими романтиками сверхзадач... Показывали Варенникова, путчиста, говорит: "Да не смерть так страшна, как позор, ведь на весь мир опозоримся, так оно и вышло"... И Язов ему вторит (видеопротоколы допросов):"А народ-то уже не тот... в этом моя ошибка, не увидел..." Когда я утром 19 августа 1991-ого, полный ужаса от свершившегося (кошмарные сны сбывались: власть меняется, ворота захлопываются и ты попался, воробушек, а паспортом своим иностранным хучь подотрись) я прискакал к Мише, он поразил меня своей невозмутимостью и спокойствием."Да ты не бойся, Наум, это все ерунда, они как дым рассеются, я им даю три дня от силы. Они, как и ты, оторвались от нашей действительности, народ-то уже не тот. Так что радуйся, благодари Бога, что он дал тебе возможность так сказать посетить сей мир в его минуты роковые..." Неделю назад пикничок был вечерний на берегу моря, М. и Н., А. со своей подружкой, довольно ладной и еще молодой бабенкой. Выпили больше обычного, народ возбудился и решил голышом купаться. Бабы смело разоблачились и, ревниво оглядывая друг друга, бросились в море. Груди у подружки А. крепкие, маленькие, торчали над водой, и она задорно смеялась. Мужички посмущались немного, но тоже разоблачились, только я застеснялся. А когда коза моя из моря выскочила, гладенькая, меня звать, поволок ее, хоть и упиралась, на вышку спасателей и там наверху отодрал при лунном свете, на виду у резвящейся в море публики. Выпили винца и давай дальше плескаться, вдруг из тьмы возникла компашка парней призывного возраста, человек шесть, и давай улюлюкать. Бабоньки вылезли, не шибко стесняясь. А. рассвирепел и, жердь поддатая, пошел, болтая детородным (жена внимательно следила за его извивами), с ними драться. Пришлось пойти с ним и посоветовать им поберечь древние портреты. Молодежь оказалась не особо воинственной, они отступили к вышке, ворча что-то про "русских блядей" и, поднявшись на нее, продолжали улюлюкать. Вынудили нас собирать манатки. Возбуждение было необычным и, кажется всем понравилось. 11. 9. Весь Израиль обсуждает речь Асада в сирийском парламенте. Ловит намеки на добрые намерения. Жители Голан открыли "новый этап борьбы". Главарь их, М'алка, оправдывался:"Мы не собираемся сваливать правительство. Мы заявляем ему наш протест." Правительство сваливает их с Голан, но они, верные партийцы, не собираются сваливать правительство. Небось предложи родное правительство десятину с каждого на алтарь дела мира, тут же бы его свалили. Володя звонил. Его статью о Бокштейне напечатали в "Новостях недели". Доволен. Грандиозные планы заполнить все их приложения до пришествия Мессии. Зол, что не взяли статью о Генделеве: не хотят рекламировать конкурентов. - Суки вонючие! Я - поэт! Я пишу о поэтах! "Пишите о ком угодно, только не о Генделеве"! А о ком, о Бараше что ль писать? Да я не хочу его топтать! О Вернике? Больше двух строк не напишешь! Кстати, когда твоя книжка выйдет? А неделю-две назад была там его статья "Разговор о Дане". Недурно. Хотя вскользь. О Бокштейне - верно. Только за безвкусицу "птицечеловека" критиковать бессмысленно. В этой безвкусице - суть. Она оттеняет его метабред, придает ему подлинность. (Сам же пишет: "вдруг Оно живое?", и тут же - "лужи инфантильной тропики".) Иначе все было бы "сделано", то есть сухо, постно, натужно, а то и фальшиво, и всегда - мертво. Кто все время боится оступиться, у того походка неестественная (идет, как аршин проглотил). А Бокштейн чудесен естественностью, пусть даже и бредоносной. Его вообще "критиковать" бессмысленно. Критиковать можно "сделанное", а не явления природы. Бокштейну надо слагать гимны. И почему "досадно", что "ни тени иронии"? Да вся эта современная "ирония" - кокетливость шлюх! Или, в лучшем случае, "прыщавые" комплексы недовылупившихся. В новостях была корреспонденция об исчезнавении хасидов из центра Тель-Авива (ул. Шенкин и вокруг): в синагогах не хватает молящихся для миньяна* (старики платят деньги молодым "богобоязненным" из других кварталов, чтоб те приходили с ними молиться, те, конечно, берут денежки безбоязненно, и доброе дело, и тут же тебе воздаяние), насиженными их местами овладевают пацаны, долбающие рок на гитарах, полуголые девки, красные "ягуары" на тротуарах, педики в обнимку в кафе "Жопа". Корреспонденция сделана с едва сдерживаемой радостью по поводу ухода "старого мира", радостью, под маской сочувствия к одиноким седобородым дедушкам, чувствующим себя несколько неуютно в "новом мире", но проявляющим к нему удивившую меня снисходительность. Корреспондент подходит к парню лет 20-ти у входа в магазинчик кассет и дисков: "А ты не думал никогда, что может быть религия способна ответить на те вопросы, которые тебя волнуют?" Парень, на вид интеллигентный, пожал плечами: - А меня ничего не волнует. Это было гениально просто, в точку, в яблочко. Воистину новый народ, как и опасался Ахад Гаам: "без имени и культуры". Вадим Встречать меня в аэропорту Вадиму не хотелось. Как коту на печке, зимой, в сени выбегать. Меня это, конечно, задело, тем более ты ж ко мне в гости собираешься. Ну, ладно. Сам ленив, понимаю, да и, слава Богу, обойдусь. Позвонил через пару дней. Встретились у Почтамта на Мясницкой, где я своим обычным сумасшествием занимался - отправлял книги, первую партию. Обнялись. Подарил ему альбом фотографий "Христианские места в Израиле". Пока шла очередь, упаковка, писание адресов, он рассеянно листал его. Покосившись, смотрел, как пишу адрес на иврите. - Загадочный древний язык! - М-да, - ухмыльнулся я, не зная как реагировать на прилив романтики. Книги были отправлены. Мы вышли к Гоголевскому и пошли вниз, к Чистым прудам. Погода была замечательная. Солнечно, не жарко. Сели на скамейку. Вадим закурил. Он совсем не изменился. Никак не дать сорока семи. Все тот же прямой негустой пшеничный волос, никаких седин, лысин, брюха, скорбных морщин-борозд и прочих признаков разложения. Даже моложе чем три года назад, ни дать ни взять - тридцатилетний. Глядя на старый московский дом напротив (не Талызина ли, где Гоголь умирал?), на листву, купающуюся в солнечных ручьях, стекающих по стволам и ветвям, на девиц с породистыми собаками, на мужичков в маечках за домино, я вдруг узнал запах московского лета из прошлой жизни, пахнуло уютом родины, отпустила привычная тяжесть, и снова нам было по тридцать, да что там - по двадцать!, и мы рассказывали друг другу очередные романтические сказания: -Ты не представляешь, какая на меня удача свалилась! Я влюблен по уши! Она совершенно необыкновенная женщина... 12.9 Вчера младший играл на вечере, организованном англо-израильским культурным фондом в галерее Штерна на Гордон. Собирали деньги на поездку их оркестра в Англию. В самой галерее была выставка 4-х поколений Писсаро, наглядно демонстрирующая фамильное вырождение. Родоначальник был представлен несколькими завалящимися рисуночками по 5-10 тыс. долларов. Публика была светская, богатенькая, даже эти рисуночки покупали (а вот закусочку подали хилую), всякие бабы в отчаянном возрасте, пара гомиков, тоже не первой свежести, настоящий светский лев: элегантно одетый, легкая седина, мужественное лицо, которое портил только налет скучающей наглости. Отпрыск в одном месте от волнения "поехал" не туда, смутился и вообще сбился. Вряд ли кто заметил, кроме, конечно, учительницы, тут же покрасневшей. Вернувшись, мы пошли с супругой в наш Хулонский лес, выгулять кокера, старший, по вечерам это его обязанность, приболел. Сели на скамейку. Она легла, положив голову мне на бедро и закрыв глаза. Черный, с блестящей шкурой, разжиревший кокер весело валялся в темной траве, потом подбежал и тоже улегся рядом. Правой рукой я гладил ее волосы, а левой - кокера Кл°пу. Утром ходил в бассейн, потом, гуляя с собакой, встретил Жору, бывшего короля русской прессы. К моему удивлению он подошел, пожал руку, встал рядом, "как дела" и прочее. Видно паническое состояние располагает к доброжелательности по отношению к потенциальным сочувствующим, а Жора в панике, в ужасе от левых, от Рабина: - Я вчера Шилянскому говорю, да уйдите вы все из Кнессета, перестаньте сотрудничать с этими большевиками! Тотально! Плюют на концензус, ну так пусть сами, в одиночку и правят! - Правильно, - завожусь с пол-оборота, - если народ для этой местечковой аристократии - "пропеллеры", то нечего играть с ней в парламентские игры, нужны резкие методы, призыв к гражданскому неповиновению, нужно показать народу, что ситуация критическая, что эти капо тащат народ к печам, рассказывая, что там тепло и сухо. Он рукой махнул:"Да не с кем же разговаривать. Одна надежда, что у них сейчас раскол будет." - С чего это? - Ну из-за Голан у них сейчас итъарерут /пробуждение, активизация/. - Да какой там итъарерут! Давно ясно, куда дело гнут, если они до сих пор не итъареру, так уж теперь, после драки.., знаете, как царь Агриппа жидков учил? Тот, кто выразив покорность, потом восстанет против притеснителей, тот не свободолюбивый человек, а взбунтовавшийся раб. Нет, я смотрю на вещи куда пессимистичнее: не Рабин тут виноват, народ говно. А он только всплыл, за говно это уцепившись. Народ приспособленец. Дело швах. Были же мы у власти, и что? - Мы?! - возмутился Жора. - Ликуд был у власти, и то бекоши /с трудом/, а не мы! Сенильные ревизионисты и хапуги черножопые! Даже аппарат не смогли поменять. Если б мы были у власти, они бы этих социалистов с увеличительным стеклом бы искали! Вечером позвонил Верник, Чичибабин приезжает, 4 -ого октября вечер. Жара. 34 по Цельсию. Йом Кипур на носу. Читаю Аниту. О тоске по героизму еврейских юношей сто лет назад. А нынешние мечтают о мире. Чтоб их в покое оставили, в милуим не забирали. Вадим - Мы познакомились на поэтическом вечере. Я года два назад стал немного выходить в люди, и, есть такая студия при одном клубе, народ уже не юный, поэты, художники, меня пригласили почитать. И вот что здорово еще красавиц-то колдуют мои греховные стихи! Успех был замечательный, дамы обступили, просили автографы, и она. Я подарил ей книжку, потом она мне позвонила, попросила встретиться. Прочитала стихи, посвященные мне. Ну и... пошло-поехало. И, понимаешь, такая связь... неразрывная, такое взаимопонимание, буквально душа в душу... у меня еще так не было. Получилось, что и на мой закат печальный... - М-да... А сколько ей лет? - 35. - Не замужем? - Замужем, куча детей. - Ого?! - И ты не представляешь, на ней совершенно не заметно. Такая статная, красивая! - А муж чего делает? - Не знаю точно. Знаю только, что деньгу гребет. Одевается она шикарно, духи дорогие. Захотелось мне ввернуть насчет спонсора, но сдержался, Вадим был настроен на полном серьезе восторженно. - И как она время находит? - полюбопытствовал я. - Вот, находит. Они находят, когда хотят. - М-да, это точно... - И стихи она замечательные пишет. Все со мной советуется, я у нее вроде... ну так, поучаю в общем. А поет как! И на гитаре играет. Ей твои песни очень нравятся. Да чего там, я вот на днях организую встречу, познакомлю вас. - Аа, я с удовольствием. - Совершенно удивительно..,- продолжал Вадим мечтательно, - она тут уезжала с детьми и мужем, в отпуск, прям плакала... И вернулась на три дня раньше, умираю, говорит, соскучилась... - М-да, - я качнул головой и улыбнулся. - Здорово. Позавидовать можно. А улыбнулся я тому, что и четверть века назад он вот так же, с таким же восторгом, рассказывал мне свои необыкновенные приключения, и я ему ужасно завидовал. - Я сам просто не верю, что такая удача. Но я ее заслужил. Выстрадал. А как она мои стихи чувствует, понимает! Ну, потом, как водится, настала моя очередь делиться, только истории мои всегда были, по сравнению с его, попроще, пообыденней, без всякой романтики. Рассказал о своих неудачах с А. - Ну, это не любовь у тебя, - прозвучал вердикт. - Это так. А что не встает, так это только баба виновата. - Да, она совершенно холодна... - Ну ясно. Однако я тебе удивляюсь. Ей богу, ты совсем не изменился. Ну зачем тебе это? Зачем без любви? Любишь ты ситуацию насиловать, не можешь примириться с тем, что любовь - редкость, странная встреча! Ее, как штангу, не выжмешь. Чувствуешь, что не то, и иди с Богом. - М-да. - А что ты мне рассказывал тогда про другую, которая потом уехала, про сон, в котором я ей приснился? - С той... вроде все есть: взаимопонимание, интерес ко мне, что пишу, о чем думаю, что переживаю... Когда мы увиделись, прям мистика, через 15 лет, случайно, в другой стране... Но... какой-то страх... Когда уже сблизились, в первый раз, так после... обычно знаешь, человек расслабляется.., помню ее взгляд... бездонный, неотрывающийся, какой-то суровый, страшный... будто два дула за мной следят... - Прям мурашки по телу. Ну так это ж и есть любовь! Я прям вижу этот взгляд! И Вадим передернул плечами. - Так что у вас? - Ничего. Переписываемся. Приезжает иногда. Два паренька в галстучках подошли: - Колготки не желаете? Итальянские, по 10 тысяч? - Хиляй-хиляй со своими колготками,- резанул Вадим с неожиданной грубостью. - Чего это ты? - удивился я. - Ходят тут, со своими колготками, прям НЭП какой-то. - Ну конечно НЭП, а ты что думал? Мальчики шустрят, причем культурно, в галстучках, а что? - Слушай, - неожиданно переключился Вадим, - угости меня пивом, а то, сам понимаешь, ни копья. Передернуло меня от нищенского надрыва. - Аа, пошли, конечно, - говорю, - действительно что-то пить захотелось. Герцель и Нордау, озабоченные еврейской трусостью и бесчестьем, писали пьесы о евреях, гибнущих на дуэлях, бросая вызов своим обидчикам, доктор Коэн у Нордау объясняет необходимость выйти на поединок тем, что речь идет не только о его собственной чести, но и о чести еврейского народа (видно с юмором они к тому времени успешно расправились). А вот Ахад Гаам считал, что оба не понимают духа еврейства, что оскорбления не могут задеть чести "настоящего еврея", который гордо пройдет мимо. Ахад Гаам лучше понимал соплеменников, и его "настоящие" евреи, пройдя мимо оскорбителей и мимо сионизма пришли прямехонько и мирно в Освенцим. 13.9. Сегодня Севела по русскому ТВ предлагал "намыленную веревку" для наведения порядка в России. "Вешать на площадях, публично" тех, кто готов "зарезать за видеокамеру". А ведь когда-то шутник был знаменитый ("весело провели евреи субботу у Стены Плача"). Выступал он в паре с Кожиновым (программа "Я -лидер"). Начал так: "Если бы я был царем...", а потом о виселицах. Крутой парень. Трижды еврей СССР. 15.9. Йом Кипур. Страшная жара. И так каждый Йом Кипур, как в осаде. Еще приболел вдобавок. Книжка не вышла. Посылок нет. Читаю Аниту. Сформулировала трагическую дилемму еврейской национальной независимости: стремление к силе для самозащиты, и, противоположное ему, стремление к справедливости. Страх перед насилием стал страхом перед силой и привел к ее фетишизации. Так дети, которых часто били в детстве, либо чувствуют отвращение к силе, либо ей поклоняются. Жена:"Мертвый день. И, как назло, все время жрать хочется." Сейчас - переломный момент. Хотят сделать из нас нацию молокан, пацифистов. Если не устоим, не выдержим, покатимся с Голан и ото всюду это будет означать психологический коллапс. Не в территории дело, а в психологии. Мы уже сдались. Осталось только аккуратненько прибрать нас к рукам. Главное аккуратненько, постепенно, не делая чересчур резких движений. Чувство независимости (а оно из чувства чести вытекает!) потеряно. Мы давно (и с радостью!) стали американскими "бней хасут" (вот на Гаити послали подразделение, все орут: что наши парни делают в Газе, но никто и не пикнет: что наши парни делают на Гаити?), в русском языке даже слова такого нет, вассалы? нет, вассал - звучит чересчур благородно, "находящиеся под покровительством", вот точный смысл. В "Маариве" за 14.9. письмо Хаима Анегби своему школьному приятелю Егуде Арелю, который голодает сейчас в Гамле против эвакуации. "Твоя голодная забастовка, не могу отрицать, смешна мне. Политика отчаявшихся фанатиков, пытающихся выжать слезы у публики ради призрачной идеи - "жить благодаря мечу своему". Этот ваш бунт против нового порядка, формирующегося в нашем районе, обречен. В этом смысле вы правильно выбрали Гамлу... Глаза твои не видят того, что "знамение на стене" уже появилось, уши не слышат голоса нового мира ". Дальше: "Никто меня не уполномачивал говорить от имени сотен тысяч (?!!) беженцев с плато Голан в 1967 году. Десятки деревень были разрушены. А вы, сидящие на их землях, еще смеете опираться на принцип связи человека со своей землей!" И последний аккорд: "Прямая ответственность ложится на каждого врага мира за каждую каплю крови, пролитую ради лживых идеалов национального величия." А как насчет ответственности поборников мира за каждую каплю крови, пролитую ради их лживых идеалов "нового Ближнего Востока"? Самое отвратительное у левых - когда попытку политического урегулирования конфликта с арабами поднимают на религиозную высоту "идеологии мира", когда дискуссия вокруг тактики политического урегулирования подменяется борьбой с "врагами мира" (увы, здесь не только пропагандистская логика, здесь попытка найти свою мифологию, свою витальную энергетику). Несогласных с политикой правительства клеймят "отчаявшимися фанатиками", жаждущими народной крови ради "лживых идеалов национального величия", уже не только клеймят, но и проводят превентивные аресты, запрещают "экстремистские" организации, якобы за подготовку к терактам ( не удивлюсь, если половина этих "экстремистов" провокаторы). Ведется тотальная промывка мозгов с использованием всех госсредств, в школах объявлен "год мира", наплыв левых лекторов, которые за счет часов обучения ебут мозги несмышленышам о "дружбе народов", в каникулы для детсадовской малышни целую передачу о мире сделали, аж Переса пригласили!, и "дедушка Перес" рассказывал малышне те же сказки, что и взрослым, материнского вида т°ха показывала карту Ближнего Востока "без границ", "как в Европе", и сладким голосом пела деткам как будет здорово, когда будет "мир". Все здоровое и живое в народе объявляется "устаревшим" и подвергается осмеянию и дискредитации: религия - мрак средневековья, стремление дать отпор врагам - культ силы, Бар-Кохбе, как отъявленному фанатику, историки устраивают телевизионное судилище (по этому поводу неплохо пошутил Меринг: "военные историки считают, что спартанский царь Леонид должен был отступить при Фермопилах, во всяком случае историки отступили бы"). Я при этом вспомнил "суд над Онегиным" из романа "Два капитана". Мы на шаг от тоталитарной пропасти. Чем сильней политическая тактика левых будет увязываться со святостью "идеологии мира", тем трудней им будет признаться в тактических ошибках (ведь они тогда превратятся в идеологические, в отрицание пути!), и тем более отчаянно они "пойдут вперед", "несмотря ни на что". Чтобы оправдать ошибки, пойдут на маленькие преступления, а чтобы скрыть эти маленькие - совершат большие. Жена: "Этот день меня уже достал, напилась бы щас..." И впрямь, прослонялась целый день из угла в угол, русские телепередачи смотрела, самой стыдно стало. А за окном народные гуляния, дети на велосипедах. Прочитал ей отрывок из письма Бен Гуриона (читаю Аниту). Перед цитатой было вступление о том, что он "рассказывал в письме о своем "медовом месяце". Жена: "С Манькой его? Я: "С какой Манькой? Жена: "Или с Полинкой, с кем он там? Я: Да ни с кем, с сионизмом! "Медовый месяц" - это метафора такая, понимаешь? Начала, заикаясь, ржать. Когда успокоилась, я прочитал ей на иврите:"Первые завоеватели превратились в сутенеров и лавочников, торгующих надеждами измученного народа и по кусочкам продающих стремления своей юности. Образ Галута внесен ими в Храм Возрождения, а восстановление родины идет чужими руками." Она опять заржала, со слезами. - Что такое? - Ты меня... просто... я половину слов не поняла... Однажды в милуиме ховеш* , симпатуля такой, сказал мне, что сам лично готов сжечь всех "досов" * в печах, причем, говорит, живыми, Гитлер был гуманист, сначала умертвлял их. Я тогда не понял этой ненависти. Приписал бытовухе, недовольством, что в армии не служат , что по субботам не ходят автобусы. А дело-то глубже, принципиальней. Десятилетия шла оголтелая пропаганда социалистов-ассимиляторов (они ж тут коммунизм собирались строить вместе с феллахами), против еврейского национализма. Для ассимилянта смерть нации есть доказательство его правоты, а живая нация - живой свидетель его низости и предательства. Потому леваки-ассимилянты с таким ожесточением и борятся против религиозных (в России евреи-коммунисты также доказывали свой интернационализм), что это ядро нации, и ненависть к ним сильнее, чем к арабам, впрочем что я говорю, арабы для них союзники в борьбе с собственным национальным ядром. Самое страшное, что народ уже не сможет подняться на войну единым. Отныне (началось еще с Ливанской кампании, которую левые объявили войной правых и отказывались, как генерал Гева, в ней участвовать) всегда в решающий момент будет раскол на "партию войны" и "партию мира". Если "партия мира" будет у власти, как сейчас, она не сможет решиться на войну, потому что это будет означать признание лживости ее концепций и политическое самоубийство, связанное и с риском для жизни, потому что при смене власти на волне тотального разочарования с ними сведут счеты, она вынуждена будет отступать и отступать, уступать и уступать, до конца. Если правые будут у власти, им будет очень трудно решиться на войну, потому что "партия мира" всегда будет утверждать, что можно было еще немножко уступить и потерпеть, чтобы предотвратить кровопролитие, она сделает все, что в ее силах, включая прямое предательство и сотрудничество с врагом, чтобы предотвратить возможную победу в войне, то есть победу правых. Вся эта логика (ее признаки уже обнаружились в Ливанской войне и Интифаде) неизбежно приведет к превращению следующей войны в войну гражданскую, как было две тысячи лет назад в страшной тяжбе с Римом. По русскому ТВ в программе "Час пик" с Листьевым выступала некая Альбац, профессиональный борец с антисемитизмом. "Антисемитизм, - говорит, - это не проблема евреев". И что "их не любят, за то, что они чужие". И что "каждый народ имеет право на своих подлецов". Телезрительница спросила, а как вы своего ребенка воспитываете, вы ему объясняете, что он принадлежит к великому еврейскому народу? - Видите ли, - нимало не смущаясь, ответила борец, - вопрос сложный и очень личный. Дело в том, что мама у меня русская, а отец еврей. Отец же дочери тоже русский. А я считаю себя еврейкой пока живу в антисемитском государстве. Профессиональные евреи. До последнего антисемита. Евтушенко тож. Кстати, это был ловкий ход с "Бабьим яром". Великолепное поэтическое капиталовложение. До сих пор купоны стрижет, так и известен на Западе, и в истории останется, автором "Бабьего яра". (Ну вот и я камень в беднягу кинул.) Когда старшего моего 17 лет назад в английскую школу принимали, спросили на собеседовании: кто твой папа по специальности? - Еврей, - ответил растерявшийся 7-летний мальчик. Видеоклипы с песнями бывают совершенно замечательные. Авангардная кинопоэзия. Вчера смотрел, раз в пятый, "Андрея Рублева". Хорошо пошел в Йом Кипур. Вот типичный "спасатель" от искусства, Андрей Арсеньевич. Еще верил тогда (в "Рублеве"), что красота спасет.

Наум Вайман – известный журналист, переводчик, писатель и поэт, автор многотомной эпопеи «Ханаанские хроники», а также исследователь творчества О. Мандельштама, автор нашумевшей книги о поэте «Шатры страха», смелых и оригинальных исследований его творчества, таких как «Черное солнце Мандельштама» и «Любовной лирики я никогда не знал». В новой книге творчество и судьба поэта рассматриваются в контексте сравнения основ русской и еврейской культуры и на широком философском и историческом фоне острого столкновения между ними, кардинально повлиявшего и продолжающего влиять на судьбы обоих народов. Книга составлена из статей, объединенных общей идеей и ставших главами.
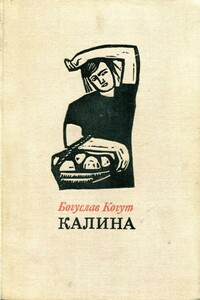
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Обложка не обманывает: женщина живая, бычий череп — настоящий, пробит копьем сколько-то тысяч лет назад в окрестностях Средиземного моря. И все, на что намекает этателесная метафора, в романе Андрея Лещинского действительно есть: жестокие состязания людей и богов, сцены неистового разврата, яркая материальность прошлого, мгновенность настоящего, соблазны и печаль. Найдется и многое другое: компьютерные игры, бандитские разборки, политические интриги, а еще адюльтеры, запои, психозы, стрельба, философия, мифология — и сумасшедший дом, и царский дворец на Крите, и кафе «Сайгон» на Невском, и шумерские тексты, и точная дата гибели нашей Вселенной — в обозримом будущем, кстати сказать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.