Шаутбенахт - [94]
В пункте «Пища наша» Муня, наверное, все-таки перебрал. Не в смысле обжорства, а что и сейчас бы своими зрячими пальцами любовался «эстреллой»: ел бы и осязал — не то что… Как раз был очередной привал, он снова «выжирал» фасоль из горсти. Хорошо, что еще не прямо мордой в торбу, словно там овес, а он — известное животное. Вокруг стоял (или пора переучиться: «в ушах стоял»?) привычный шум — шум присутствия, а не общения. Таким по природе своей является птичий гомон — к слову сказать, никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивавших ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним наши солдаты, — правда, Муня бы не поручился, что так оно в действительности и было. Он сам говорил про птиц с чужих слов, повторял как попугай.
Но что было бесспорно, так это полдневная жара — в ночи-то кромешной. Они пошли дальше. Муня с оттенком бреда размышлял, что легче: жара при ослепительном свете дня или — мнимой ночью? Он вообразил такую игру — для себя и для своих товарищей по несчастью. Пейзаж в духе этого, с расстроенной психикой — ну, этого, Сальвадора Дали: редкие, но тенистые деревья на каменистом плато, по плато мечутся фигурки людей, им надо эти деревья отыскать, чтобы спрятаться в их тени. Это как на детском бильярде: никелированный шарик мечется, один угодит в лунку, а другой, зигзагами, так и промчится — в пекло.
А согласился бы Муня победить Франко ценой потери обоих глаз? А ценой потери ног? (С каждым вопросом планка понижалась, следовательно, ответ всякий раз был… какой?)
Страшного в слепоте, как ты понимаешь, ничего нет. Это только покуда видишь — боишься ослепнуть, а когда уже не видишь, то понимаешь, что это не самое главное. Муня порадовался за себя не сильно, но все же: голова, подумал он, — зато голова начинает работать лучше, нет отвлекающих факторов, мысль собирается, концентрируется в точку, которая вот-вот закатится под тенистое дерево; а если б мозги оставались прежними, разве был бы он в состоянии состязаться с никелированными шариками остальных?
Но им, конечно, хуже, чем ему. Слепой — это прежде всего homo sapiens, сплошной клубок мыслей. Кому-то, таким, как Муня, это в радость, но простые люди — чьи радости иного свойства, — как они это переносят? Муня злорадно ставил их перед дилеммой: ранение как теперь или же хорошенькое ранение в пах? Выбирай, парень, выбирайте, Педро, Рамон, Мануэль, Хаиме.
Мысль потекла в новом русле: не видеть предмет своей похоти — это то же, что сразу гасить свет, без всяких прелюдий, — ну, взять и сразу повалить на диван. Сам Муня так и поступал: всегда находились какие-нибудь терезы — молоденькие работницы, уныло зарабатывающие свое унылое жалованье. Боже упаси от мысли, что он им платил, как какой-нибудь буржуйский сынок, — мог, конечно, сводить в угловую кондитерскую или заплатить за билет в кино. Но их приманивали разве деньги? Запах денег, исходивший от него, то, что он проживал на бульваре Тотлебена в особняке. Если уж на то пошло, платить приходилось «ласкою после» — так трудно дававшейся ему «пост-людией», в продолжение которой душа рвалась прочь, подальше от этой мерзости (как мог отец избрать себе такую профессию — не понимаю…).
Муня не верил в любовь и противоположный пол презирал. А может ли слепой влюбиться (сам он был влюблен лишь в раннем-раннем детстве: девочку звали Марта и она играла в саду, куда ходил и он, тогда под присмотром некой болезненно тучной Марфы — звавшейся так словно в насмешку над его чувством), и если может влюбиться (повторяем, слепой), то как, во что? Этот, несколько смущенный, интерес к любви — вдруг! — был сродни интересу к коитусу — еще не изведавшей его, но уже вполне, так сказать, на выданье девицы.
…Новая грань мысли, острая, как кинжал под плащом: идеальная месть Нарциссу — выколоть ему глаза… этой мысли не суждено было продолжение. Кончик носа, крепкий как кость (по самоощущению), сплющило от ударившей в него вони — происхождения совершенно однозначного. Бывают запахи, которыми можно дубы корчевать: шедший перед ним обделался на ходу, как лошадь. Вся эта сволочь в окопах гадила прямо под ногами. От отвращения Муня… вздохнул. Он подумал с горечью, что фронт прорван. Но почему нет канонады? В страхе: а если мы в фашистском тылу? Что с нами сделают? Он помнил страшные рассказы: пленным перерезали горло и после — бег, кто сколько шагов пробежит (приз получает за победителя его семья). Слышал и о более страшных надругательствах — язык не поворачивается выговорить каких. А вот что сделают с Люцифером, собакой, переучат для себя или она разделит их судьбу — будет казнена? Канонады не слышно — плохо, очень плохо. А какую бы смерть уготовили Нарциссу греческие боги, будь они фашистами?
Опять, похоже, в своей одиночной камере черневшее Мунино «я» затевало самосуд. Нарцисс — звучало все отчетливей обвинение. Миф о Нарциссе, перенесенный в пустыню: он утопился, любуясь своим отражением в луже собственной мочи. Еще пару глотков из фляги… Нет, это пить невозможно… Лучше вылить себе на голову, все до конца — нечего беречь!

Герой романа «Обмененные головы» скрипач Иосиф Готлиб, попав в Германию, неожиданно для себя обнаруживает, что его дед, известный скрипач-виртуоз, не был расстрелян во время оккупации в Харькове, как считали его родные и близкие, а чудом выжил. Заинтригованный, Иосиф расследует эту историю.Леонид Гиршович (р. 1948) – музыкант и писатель, живет в Германии.

ХХ век – арена цирка. Идущие на смерть приветствуют тебя! Московский бомонд между праздником жизни и ночными арестами. Идеологи пролеткульта в провинциальной Казани – там еще живы воспоминания о приезде Троцкого. Русский Берлин: новый 1933 год встречают по старому стилю под пение студенческих песен своей молодости. «Театро Колон» в Буэнос-Айресе готовится к премьере «Тристана и Изольды» Рихарда Вагнера – среди исполнителей те, кому в Германии больше нет места. Бой с сирийцами на Голанских высотах. Солдат-скрипач отказывается сдаваться, потому что «немцам и арабам в плен не сдаются».

Жанр путевых заметок – своего рода оптический тест. В описании разных людей одно и то же событие, место, город, страна нередко лишены общих примет. Угол зрения своей неповторимостью подобен отпечаткам пальцев или подвижной диафрагме глаза: позволяет безошибочно идентифицировать личность. «Мозаика малых дел» – дневник, который автор вел с 27 февраля по 23 апреля 2015 года, находясь в Париже, Петербурге, Москве. И увиденное им могло быть увидено только им – будь то памятник Иосифу Бродскому на бульваре Сен-Жермен, цветочный снегопад на Москворецком мосту или отличие московского таджика с метлой от питерского.
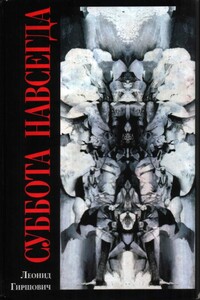
«Суббота навсегда» — веселая книга. Ее ужасы не выходят за рамки жанра «bloody theatre». А восторг жизни — жизни, обрученной мировой культуре, предстает истиной в той последней инстанции, «имя которой Имя»…Еще трудно определить место этой книги в будущей литературной иерархии. Роман словно рожден из себя самого, в русской литературе ему, пожалуй, нет аналогов — тем больше оснований прочить его на первые роли. Во всяком случае, внимание критики и читательский успех «Субботе навсегда» предсказать нетрудно.

1917 год. Палестина в составе Оттоманской империи охвачена пламенем Мировой войны. Турецкой полицией перехвачен почтовый голубь с донесением в каирскую штаб-квартиру генерала Алленби. Начинаются поиски британских агентов. Во главе разветвленной шпионской организации стоит Сарра Аронсон, «еврейская Мата Хари». Она считает себя реинкарнацией Сарры из Жолкева, жены Саббатая Цви, жившего в XVII веке каббалиста и мистика, который назвался Царем Иудейским и пообещал силою Тайного Имени низложить султана. В основу романа положены реальные исторические события.
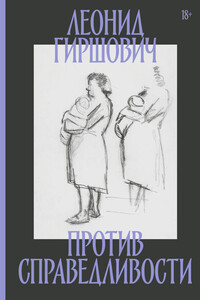
Что значит обрести свою идентичность не по факту рождения, а в процессе долгой и непростой культурной эволюции? Что значит всегда быть «другим» – для общества, для культуры, для самого себя, наконец? В новой книге Леонида Гиршовича произведения разных жанров объединены темой еврейства – от карнавального обыгрывания сюжета Рождества в повести «Радуйся» до эссе об антисемитизме, процессах над нацистскими преступниками и о том, следует ли наказывать злодеев во имя справедливости. На страницах книги появляются святые и грешники, гонимые и гонители, гении и ничтожества, палачи и жертвы – каждый из них обретает в прозе и эссеистике автора языковую и человеческую индивидуальность.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…
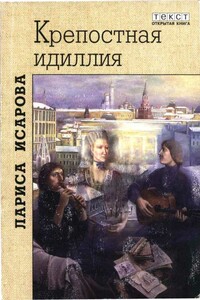
В книгу вошли два романа известной писательницы и литературного критика Ларисы Исаровой (1930–1992). Роман «Крепостная идиллия» — история любви одного из богатейших людей России графа Николая Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой. Роман «Любовь Антихриста» повествует о семейной жизни Петра I, о превращении крестьянки Марты Скавронской в императрицу Екатерину I.

Многоплановый, насыщенный неповторимыми приметами времени и точными характеристиками роман Светланы Шенбрунн «Розы и хризантемы» посвящен первым послевоенным годам. Его герои — обитатели московских коммуналок, люди с разными взглядами, привычками и судьбами, которых объединяют общие беды и надежды. Это история поколения, проведшего детство в эвакуации и вернувшегося в Москву с уже повзрослевшими душами, — поколения, из которого вышли шестидесятники.

Борис Носик хорошо известен читателям как биограф Ахматовой, Модильяни, Набокова, Швейцера, автор книг о художниках русского авангарда, блестящий переводчик англоязычных писателей, но прежде всего — как прозаик, умный и ироничный, со своим узнаваемым стилем. «Текст» выпускает пятую книгу Бориса Носика, в которую вошли роман и повесть, написанные во Франции, где автор живет уже много лет, а также его стихи. Все эти произведения печатаются впервые.

История петербургских интеллигентов, выехавших накануне Октябрьского переворота на дачи в Келломяки — нынешнее Комарово — и отсеченных от России неожиданно возникшей границей. Все, что им остается, — это сохранять в своей маленькой колонии заповедник русской жизни, смытой в небытие большевистским потопом. Вилла Рено, где обитают «вечные дачники», — это русский Ноев ковчег, плывущий вне времени и пространства, из одной эпохи в другую. Опубликованный в 2003 году в журнале «Нева» роман «Вилла Рено» стал финалистом премии «Русский Букер».