Шахта - [41]
Василий Матвеевич отстранился, настороженно косясь на Комарова, и низко склонил голову, выказав рыхлую желтоватую шею. «Жалкий какой...» — подумал Михаил.
— Да вы не горюйте, — проговорил слабо. — Может, еще и обойдется для вас как-то...
А к ним уже подступал Комаров, Михаил видел белесые брови директора, сухое, со впалыми щеками лицо и строгие, цвета капусты-ранницы, глаза.
— Воды... дайте, а? Воды.
Черняевская спецовка, не шибко ношенная, скрывала забинтованное тело, а душевное потрясение он старался согнать с лица вовнутрь себя, потому его не поняли сразу.
— Воды, — снова попросил Михаил. — Пить.
— Прости, Михаил Семенович. — Комаров захлопал себя по карманам, крикнул, багровея: — Есть-нет у кого фляга в конце концов?
К нему готовно потянулись руки с фляжками. Михаил взял одну в ладони — овальную, холодной тяжести. «Чего тут пить?..» — подумалось. Чувствовал, что все смотрят на него, а потому не стал показывать своей жадности, выпил всего полфляги. Вода, казалось, до желудка не дошла, высохла где-то в груди, но он отнял горлышко ото рта, закрыл аккуратно флягу, протянул хозяину.
— Можно, я потом что надо скажу, Александр Егорыч?..
— Конечно! Как только почувствуешь себя хорошо, и поговорим. — Комаров окликнул Черняева, распорядился: — Организуй сопровождение Михаилу Семеновичу! — И, сам помогая подняться, наказывал: — Как только будешь чувствовать себя хорошо...
А Михаил почувствовал — может, потому, что утолил, жажду, — как стала оживать его душа. Как-то волнами она оживала, охватывая вначале небольшой и близкий круг жизни: вот он дышит, видит, слышит голоса, а потом вознесет его клеть под небо... А там — семья, дом, Ель с Изгибом По-лебяжьи и дальше — весь мир... С живыми и ушедшими... В памяти мертвые наравне с живыми живут. Память жива — и мир жив. Значит, под завалом еще бы раз умерли с ним вместе все дорогие, ушедшие до него. Запоздалый страх души гнал ознобистую дрожь на тело, но радость перебарывала, и он улыбался так, что по лицу не понять было: то ли он сейчас заплачет, то ли засмеется...
— Ну, теперь жить будешь сто лет, да еще и больше. Смерть, может, метила в тебя, да не попала — в другой раз не захочет с тобой связываться... — басила банщица Дарья Веткина. — Под воду-то не лезь, а то грязь в рану натечет. Сама обмою, не ерепенься, не стыдись старуху.
Терла ему голову, шершавыми пальцами шмыгала по коже, больно тянула за волосы, рану, оклеенную липучими лентами, обходила мочалкой, трыскала по ребрам козанками:
— Господи, и что за тело: камень камнем, все пальцы побила.
Лицо у Дарьи озабоченно и строго, по-мужичьи большой нос землист, в каплях пота.
— Азоркина Петра в больницу увезли, — рассказывала.
— Как он? Ты видела?
— Да как! Боль, знать, страшенная...
— Да... Хоть и живой, а калека теперь...
Дарья перестала двигать руками, затихла, притаив дыхание и вслушиваясь в себя.
— В груди что-то сбилось. — Помолчав, выдохнула: — Счас наладится.
— Да брось ты! — стал уворачиваться от ее рук Михаил. — Сам не помоюсь, что ли? Иди на воздух, в раздевалку.
— Сиди! — Она легонько ткнула его в шею так же, как давно-давно тыкала мать, когда приходил в испластанной одежке со старой, заброшенной скотной базы, где разорял воробьиные гнезда, или вытаскивала из илистых зарослей возле речки Тихонькой, мокрого и озябшего, как лягушонка, по самую макушку заляпанного глиной.
Какой острой обидой отзывался в детской душе тот материнский тычок в шею! Умереть хотелось, да так, чтобы живым остаться, чтобы видеть через полуприкрытые веки, как плачут мать с отцом, как ругает их дед: вот, мол, обижали и дообижались, а как оживет, так чтоб прощения просили. А Миша, весь жалостью пронятый, уже и сам горькими слезами заливался. В воображении с ревом кидался к ним на руки. Вот уж радость-то и взаимное сладкое признание вины и раскаяния! Лазай по деревьям и плетням, хлюпайся в иле, виновато и радостно разрешают родители, а он ни за что не соглашается: и плетня будет сторониться, и на крышу базы не полезет, где в обрешетине крыши сучки, как гвозди, — так и норовят распороть штаны, и к речке ни ногой, в ее заводи, где столько хрупких ракушек можно навыкапывать в застойлой тухлости, или где каждая ивовая ветка плюется белой пенистой слюной, а из-под коряг выглядывают пучеглазые лягушки, которых Миша запрягал в сани из веточек...
Представив себе такое и пережив, Миша через короткое время шел к матери, млея сердцем от любви к ней: «Мамка моя расхорошая, я больше не буду-у». Ручонками обвивал ноги, мешал ей ступать по избе. «Вот и ладно, ласка моя, кареглазка. — В то же место, куда подзатыльник пришелся, и нацелует. — Иди, играй — некогда мне».
Он выйдет во двор с тихой благостью на душе, с лицом не по-детски серьезным, в сторону речки посмотрит, на скотную базу, нестерпимо зовущую к себе, и потихоньку-помаленьку, оглядываясь — не заметила ли мать, — шмыгнет куда-нибудь, про все забыв. Ищи-свищи его!..
И теперь вот от Дарьиного легкого толчка в шею всколыхнулось все в душе, комком подступило к горлу: нет, не изживается, не вытравляется из нас суровостью жизни и возраста нужда в трудный час в материнском слове, в прикосновении ее рук к седой бедовой голове, только мы нужду эту прячем в себе, храним втуне так, что и забываем, что она есть.
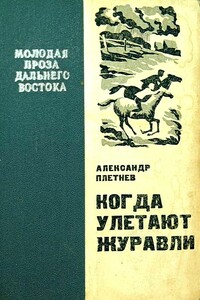
Александр Никитич Плетнев родился в 1933 году в сибирской деревне Трудовая Новосибирской области тринадцатым в семье. До призыва в армию был рабочим совхоза в деревне Межозерье. После демобилизации остался в Приморье и двадцать лет проработал на шахте «Дальневосточная» в городе Артеме. Там же окончил вечернюю школу.Произведения А. Плетнева начали печататься в 1968 году. В 1973 году во Владивостоке вышла его первая книга — «Чтоб жил и помнил». По рекомендации В. Астафьева, Е. Носова и В. Распутина его приняли в Союз писателей СССР, а в 1975 году направили учиться на Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького, которые он успешно окончил.

Кембрий — древнейший геологический пласт, окаменевшее море — должен дать нефть! Герой книги молодой ученый Василий Зырянов вместе с товарищами и добровольными помощниками ведет разведку сибирской нефти. Подростком Зырянов работал лоцманом на северных реках, теперь он стал разведчиком кембрийского моря, нефть которого так нужна пятилетке.Действие романа Федора Пудалова протекает в 1930-е годы, но среди героев есть люди, которые не знают, что происходит в России. Это жители затерянного в тайге древнего поселения русских людей.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и не знаменитых, и о себе.
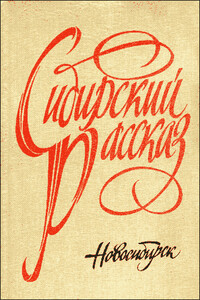
В сборник включены рассказы сибирских писателей В. Астафьева, В. Афонина, В. Мазаева. В. Распутина, В. Сукачева, Л. Треера, В. Хайрюзова, А. Якубовского, а также молодых авторов о людях, живущих и работающих в Сибири, о ее природе. Различны профессии и общественное положение героев этих рассказов, их нравственно-этические установки, но все они привносят свои черточки в коллективный портрет нашего современника, человека деятельного, социально активного.
