Северный Волхв - [24]
Мендельсон был друг и в каком-то смысле покровитель; и тем не менее Хаманн колебался ничуть не больше, чем другие авторы его эпохи и его круга, – среди которых, поразительным образом, время от времени оказывался даже Кант, – если речь заходила о необходимости заклеймить антихристианскую либеральную культуру с ее материализмом, рационализмом, самонадеянными и совершенно оторванными от жизни претензиями на авторитет, эту кучку холодных догматиков, провозгласившую себя новой элитой. Ему откровенно не нравится Берлин, поскольку он является рассадником секуляристской, либеральной культуры, самоуверенной, критической, атеистической, аналитической, подрывающей основы; ту же ноту несколько позже можно будет различить и у де Местра и во всей традиции антирационалистической, антисемитской литературы девятнадцатого столетия, покуда, наконец, она не разрастется до полномасштабной и яростной истерии в австро-германском расизме и национал-социализме. Евреи, вольфианцы, погрязшие в материализме обитатели современного Вавилона[106] – для Хаманна все они одним миром мазаны. Евреи предстают у него вечными критиками, отвеянными ото всяких корней судьями христианского мира. Терпимость по отношению к ним как к организованной религиозной секте есть уступка тому самому либеральному рационализму, который представляет собой отрицание истинной сущности человека, состоящей в том, чтобы служить Богу истинному, вслушиваться в его слова и чувствовать, и желать, и действовать в соответствии с ними в каждый конкретный момент своего земного бытия; это куда лучше понимают простые люди, чем те высокомерные умники, что подмяли под себя всю политику и всю интеллектуальную жизнь, – ручные философы при дворах просвещенных деспотов. И вот перед нами все та же самая смесь из обскурантизма, популизма, фидеизма и антиинтеллектуализма, веры в простых людей и ненависти к естественным наукам и критическому мышлению, которая окажет столь мощное и столь пагубное влияние на последующие два столетия.
Человек, с точки зрения Хаманна, есть дитя, с которым говорит отец и которое учится всему на свете, сидя у его ног, – во многом так же, как собственные идеи становились более понятны Хаманну, когда он переводил их на язык своего детства, язык Библии, которая была основой основ его пиетистского воспитания и к которой в периоды отчаяния и духовных кризисов он неизменно возвращался. Зачастую людей имеет смысл воспринимать как детей глухих, коих приходится через силу, из раза в раз заставлять повторять одни и те же слова, притом что самого звука этих слов они не в состоянии уловить[107]. Если они внимательны и послушны, то никогда не станут «противопоставлять свою природу собственному же разуму, а привычки свои превращать в необходимость»[108] и тем порождать противопоставление природы, инстинкта, чувства близости с другими людьми и с естественными явлениями – аналитическому разуму, скептически и индивидуалистически настроенному; творения – творцу; естественного – сверхъестественному или противоестественному[109]; или же необходимого – случайному.
Что представляет собой эта категория природы или «естественного», к которой постоянно взывают французские материалисты? Некое единообразие в ряду явлений? Но какие у нас могут быть гарантии того, что это единообразие постоянно? Только Господня воля. «Есть ли что в природе, в самых что ни на есть обыденных природных явлениях что-то такое, что для нас не являлось бы чудом в самом точном смысле этого слова?»[110] Чудом же оно является просто потому, что та причинная связь, с точки зрения которой мы имеем обыкновение различать между собой нормальное и чудесное, есть не более чем фикция, нами же и произведенная на свет, полезный инструмент, а никоим образом (Хаманну доставляет особое удовольствие ссылаться в этом вопросе на Юма) не что-то такое, что соответствует реальности, что с нашей стороны может быть предметом наблюдения, или ощущения, или же любого другого непосредственно воспринимаемого опыта. Исходя из этого, он вырабатывает систему взглядов, которые во многом напоминают окказионализм Мальбранша и Беркли и представляют собой один из тех истоков, коими подпитывались философы-романтики, привыкшие смотреть на реальность не как на мертвую материю, подчиненную неизменным законам, а как на самопорождаемый процесс, движимый вперед некой живой волей – слепой и бессознательной у Шеллинга, Шопенгауэра и Бергсона, восходящей шаг за шагом ко все более и более высоким степеням самопознания у Гегеля и Маркса (будь то в рамках процесса духовно-культурного или в ходе куда более материалистической борьбы с природой и другими людьми) или к осознанию божественной цели, неотъемлемой от воли Господа, как у метафизиков, ориентированных на христианскую веру.
Светские философы утверждают, что разум один и тот же для всех людей, но это не так, потому что в подобном случае в мире не существовало бы такого количества разных и постоянно конфликтующих между собой философских позиций, каждая из которых мнит себя законной наследницей одного и того же качества – разумности, присущей человеку. Единственным неразделимым далее источником истины является, конечно же, откровение – а разум или, вернее, конфликт между разными версиями рациональности привел к Вавилонской башне, которая осталась лежать в руинах; и только когда Бог снизошел к нам во плоти, единая вера сделалась принципиально возможной. Бог сей ни в коем случае не есть абстракция в духе деистов, он творец, причем творец страстный – прежде всего, он личность, глаголющая к нам через посредство истории и природы и ничуть не похожая на абстрактное гармоническое единство, каким его видят Шефтсбери или Мендельсон вкупе со всеми его друзьями-христианами. Как заметил Жан Блюм, этот бог со всей определенностью есть бог обыденного сознания, а не туманная божественная сущность абстрактной философской мысли. И добавил: «Мысль Хаманна есть то, как мыслил бы человек, мыслить не привыкший, если бы и в самом деле взялся мыслить»
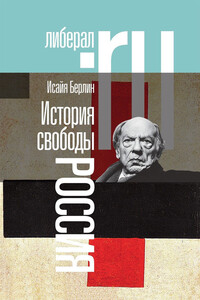
Либеральный мыслитель, философ оксфордской школы, Исайя Берлин (1909–1997) совместил ясность британского либерализма с антиутопическими уроками русской истории. Его классические работы по политической теории и интеллектуальной истории объясняют XIX век и предсказывают XXI. Эта книга – второй том его сочинений (первый – «Философия свободы. Европа»), рисующих масштабную картину русской мысли. История свободы в России для Берлина – история осмысления этого понятия российскими интеллектуалами XIX–XX веков, жившими и творившими в условиях то большей, то меньшей несвободы.

Со страниц этой книги звучит голос редкой чистоты и достоинства. Вовлекая в моральные рассуждения и исторические экскурсы, более всего он занят комментарием к ХХ столетию, которое называл худшим из известных. Философ и историк, Исайя Берлин не был ни героем, ни мучеником. Русский еврей, родившийся в Риге в 1909 году и революцию проживший в Петрограде, имел все шансы закончить свои дни в лагере или на фронте. Пережив миллионы своих земляков и ровесников, сэр Исайя Берлин умер в 1997-м, наделенный британскими титулами и мировой славой.
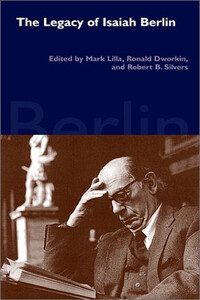
В 1945 году, впервые после того, как 10-летним мальчиком он был увезен из России, Исайя Берлин приехал в СССР. В отличие от, увы, многих западных интеллигентов, наезжающих (особенно в то время) в Советский Союз, чтобы восхититься и распространить по всему миру свой восторг, он не поддался ни обману, ни самообману, а сумел сохранить трезвость мысли и взгляда, чтобы увидеть жесткую и горькую правду жизни советских людей, ощутить и понять безнадежность и обреченность таланта в условиях коммунистической системы вообще и диктатуры великого вождя, в частности.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.