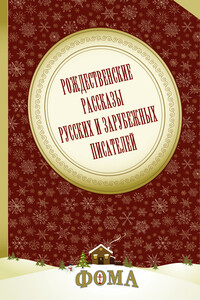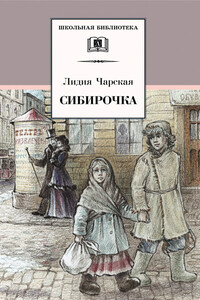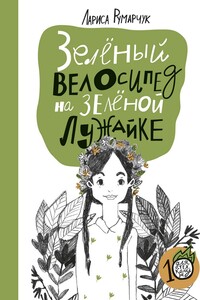— Скорее! Скорее, на извозчика!.. Увезите меня от них!.. Увезите!.. — шептала она, цепко, как за последний якорь спасения, хватаясь за руку Юматовой.
Юматова мигом сообразила в чем дело.
— Розочка, ты поедешь с сестрой Мариной. Садись на первого попавшегося извозчика. Я за вами, — коротко проронила она и рванулась к близстоявшим саням, увлекая за собою Нюту.
Катя Розанова поспешила за ними. Но в эту минуту произошло нечто совсем непредвиденное ни для спутников Женни, ни еще того менее для Нютиных спутниц. В то самое мгновенье, когда две взволнованные молодые особы в скромных одеждах сестер милосердия, с белыми фланелевыми косынками на головах, увлекали, стараясь заслонить собою, третью, огромный черный ньюфаундленд, предварительно тщательно обнюхав тротуар, вдруг поднял голову, взглянул своими большими, умными глазами на Нюту и с оглушительным лаем рванулся к ней, увлекая за собою испуганно вскрикнувшую Саломею. В одну секунду он был подле нее. Его мохнатые лапы легли на плечи бледной, трепещущей девушки и шершавый, горячий язык вмиг облизал ей глаза, щеки, лоб и губы.
— Турбаинька! Милый!
Теперь уже совершенно позабыв об опасности быть насильно водворенной снова в дом тетки, Нюта обнимала своего четвероногого друга, нежно целуя его мохнатую голову, бело-черные уши, шею.
— Турбаинька, узнал-таки! Узнал! О, милый! Верный! Милый! — шептала она, лаская тихо и радостно повизгивающую собаку и вдруг, спохватившись, закусила губу:
— Едем! Едем! — шепнула она, удивленно смотревшим на всю эту сцену, сестрам и первая вскочила в извозчичьи сани. — Вези прямо! — крикнула Нюта извозчику и тут же чуть слышно проронила Розановой, севшей рядом, и сестре Юматовой, запахивавшей полость:
— Ради Бога, чтобы они не знали, к какой общине мы принадлежим!
— Успокойтесь, милая… Вы среди друзей… Не волнуйтесь, — отвечали ей безмолвно грустные, честные глаза Елены.
Извозчик тронул вожжами. Сани понеслись. Юматова быстро взяла другого возницу и помчалась за ними.
Было как раз время. На панели, вокруг бешено лающего и рвущегося из рук Саломеи Турбая, собиралась толпа.
Коко, красный от волнения, силился объяснить остановившимся вокруг них людям, то и дело переплетая французские и русские слова:
— Моя кузина, Annette… Сестра милосердия… Soeur de charite!.. Ее похитили, должно быть!.. Ее украли!.. Comprenez vous, украли!.. Надо поймать, вернуть… Sappristi! непременно… найти… вернуть… так нельзя!.. Среди бела дня украли!
— Слышь, Ванюха, у его высокородия штой-то украли, не то бумажник, не то папиросницу. Ей Богу! Разрази меня гром! — обратился подвыпивший мастеровой к поддерживавшему его под руку приятелю.
— Бумажник украли, слышите, бумажник! — пронеслось в толпе.
— А много ли денег там было, батюшка-офицер? — вынырнула, как из-под земли, перед лицом Коко, какая-то старушонка в салопе.
— Оставьте, Коко. Они все глупы и не поймут нас, — произнесла, пожимая плечами, Женни, хмуря свои тонкие брови.
— Пять сотен украли… — между тем слышались в толпе новые слухи.
— Пять сотен!.. Нет, подымай выше, брат, целая тыща!
— Городового надо… Протокол составить… — горячился какой-то господин в шубе. — Такая дерзость! Среди бела дня!
Испуганный городовой несся со своего поста, сломя голову, подавая тревожные свистки по дороге.
— Где пострадавший? Вы пострадавший? У кого украли? — тревожно допытывался он, шмыгая в толпе.
Женни, Коко и Саломея, с рвущимся у нее из рук Турбаем, спешно уходили с места происшествия, под ни чем не удержимый, отчаянно-громкий собачий лай и громкий говор собравшейся толпы.
* * *
— Нет. Я всегда говорила, что вы чересчур много баловали эту скверную, неблагодарную девчонку, достоуважаемая Софья Даниловна. Ведь вы не делали никакой разницы между нею и вашим прелестным, невинным ангелом, votre ange, Женни.
И графиня Трюмина величественно потрясла своей, увенчанной короной завитого шиньона, головой.
— Неблагодарная, бессердечная девчонка! Вам остается забыть ее, вычеркнуть эту девчонку из вашего сердца et c’est tout!
— И все, — подхватила другая собеседница генеральши Махрушиной, худенькая, подвижная баронесса Бронд.
— Ах, ужасно, ужасно, mesdames, — вздыхала Софья Даниловна, толстенькая, шарообразная, пожилая барыня, с испуганно-удивленным, встревоженным лицом. — Ужасно! Ужасно! Нет, какова дерзость этого ребенка! Уйти чуть ли не ночью из дому, оставив записку, что уезжает в С — скую губернию к бабушке, в усадьбу, а затем проходят два месяца, и малютка Женни с Коко и добрейшей Саломеей встречают ее на улице в одежде… в одежде…
— Сестры милосердия, ma tante! — поспешил ввернуть свое слово вертевшийся тут же и звеневший шпорами Коко.
— Вот именно. В одежде сестры милосердия… Ну, скажите мне, ну, dites moi, je vouse prie, для того ли я воспитывала девочку, для того ли платила за нее в институте последние годы, учила ее музыке, танцам и изящным искусствам, чтобы по выходе из учебного заведения она пошла… она пошла… лечить, бинтовать, мазать всякими мазями разных больных нищих мужиков и их грязных детей! Это ужасно, ужасно! Она заразится от них и умрет! Умрет непременно!