Серафима, ангел мой - [4]
— Я к вам уже в третий раз приезжаю, женщина, у нас же вызовов полно, — он произносил: вызовов, — нельзя так, в самом деле, нас бы пожалели, тридцать вызовов за ночь, ну мыслимо так работать, нет, уйду отсюда, ей-богу, уйду, на завод, в медсанчасть, надоело, третья ночь кувырком, и деньги-то плевые, — он кинул пустую ампулу в блюдце.
— Долго?..
— Что — долго?
— Я спрашиваю: долго мне еще?..
— A-а… Не знаю. Может, день, может, неделю… Точней никто не скажет. Теперь часа полтора проспит, да вы сама-то ляжьте, женщина, нельзя же так, сморит ведь…
Анины сороковины справили тихо, только девчонки и пришли после занятий, а из соседок никого не было. Из техникума Сима возвращалась коротким путем, через проулок — страшно там, и темно, и Сима спешила пробежать, пока испугаться не успела, и увидела Талку: в мокром грязном снегу она стояла на коленях, мелко крестилась, прикладывалась к церковной апсиде, целовала грязную облупившуюся штукатурку; все пять церквей в городе закрыли еще в революцию, а после войны над ними водрузили фанерные красные звезды — Сима растерянно стояла возле Талки, переминалась с ноги на ногу, и Талка делала вид, что не замечает ее; наконец Сима произнесла: «Тал, ты что, богомолка?» — Сталина оглянулась: «Ну, молюсь, ну и что? Мать сказала — надо, за упокой души. Глупая, да?» — «А молитвы откуда знаешь?» — строго спросила Сима. «Откуда, откуда… Да всегда знала… Помню я, что ли, откуда знаю…» Сима знала, Сима всегда знала, что большим умом Талка не отличается, но что она так легко может пойти по кривой дорожке… Сима задохнулась от возмущения: «Вот возьму и расскажу всем — да-да, всем расскажу!» — Она почти закричала: «Надо же — комсомолка, и молится! Да как тебе не стыдно, Антонова!» — Она вскинула подбородок и зашагала по проулку; Талка кинулась следом, забегала вперед, хватала за рукав: «Сим, ты это… Не рассказывай, ладно? Не буду я больше, вот честное комсомольское, не буду, ну первый и последний раз, ну бес попутал… Нету Бога, нету, ладно… Ну хочешь, я тебе свое вечное перо подарю, а?..» Сима шла, насупив брови: нет, мало того, что Талка молиться вздумала — она ее еще и подкупить хочет! А Сима-то ее всю жизнь подругой считала! Вот как людей-то узнаешь! Почти у самого дома Талка вдруг остановилась, сплюнула в снег: «Да хоть кому рассказывай. Хоть Мигуновой своей, кому хошь. Одного вы с ней поля ягодки. У-у, гадины, ненавижу вас…» За стол они с Симой уселись в разных концах, друг на друга не глядели — они вообще после этого не разговаривали; тетя Настя поставила на комоде увеличенную Анину паспортную карточку с уголком, уронила голову на руки, причитала: «Девонька моя, девонька», — потом обвела комнату сухим взглядом, тихо сказала: «Берегите себя, девки; ничего нет в мужиках, горе одно. Друг друга держитесь. Мужики, они не помогут, в гроб сведут». Соня плакала, уткнувшись Ленке в плечо, та нервно гладила ее по спине, и Соня плакала еще сильнее, а Ленка хмурилась, кусала губы. К весне горе подзабылось, размягчело, и опять гурьбой бегали готовиться к экзаменам в овраг. На Соню накатывал очередной выпендреж, она учила девчонок французскому, хотя сама знала лишь: «ано пляс, дан ля кляс, эн увраж дю кураж» — кажется, это означало: «за наши места в классах, за работу смело». Соня заставляла Ленку и Симу повторять раз десять, тренировать произношение, сама вытягивала губы трубочкой, и вдруг заливалась звонким хохотом. После надоевшего немецкого французский казался куда вкусней, и первые два дня Сима с удовольствием повторяла вслед за Соней: «ано пляс…» — но потом как-то приелось, и Соня сердито топала ножкой и ругала Симу невеждой и лентяйкой. Раз как-то Соня в овраг припозднилась. Июнь поджаривал, Сима с Ленкой стащили платья и расположились на берегу загорать; Ленка развеселилась, схватила Симин учебник, сделала вид, что вот, сейчас утопит — как Аня, бывало — Сима закричала: «Отдай, библиотечный!» — схватила Ленку за руки, они начали бороться, Ленка сильней оказалась, конечно, ну и здорова же она, уложила Симу на лопатки — та кричала: «Справилась, да?» — весело возились, как при Ане — и вдруг Ленка как-то посерьезнела и прикоснулась к Симе, легко-легко, жестоко, бесстыдно, как обожгла — Симу бросило в жар, схватило за горло, не вздохнуть; бледная Ленка жадно, во все глаза смотрела на нее, и мелко-мелко дрожала, и спросила тихо-тихо: «Хочешь еще?..» — Сима не успела ответить, она вообще не успела сообразить, что произошло; откуда-то, рыдая взахлеб, выскочила Соня, закричала: «Я давно знала, знала!» — налетела на Ленку, ударила по щеке, скорчилась, упала на песок; Ленка нагнулась к ней: «Ну чего ты, я пошутила, ну хватит», — Сима оделась — платье вывернулось наизнанку, она не заметила, так и шла по улице… А ночью пришел сон — странный и бессовестный, наползло и раздавило что-то нестерпимо, варварски сладкое, выворачивало душу — до самого темного, звериного дна; зверь, веселый и постыдный, выныривал из бессознательной тесной глуби, рвался наружу, вон — не удержать, нельзя, ярого, дикого — нет, нет, — а-а!.. Сима застонала во сне, хрипло, громко. «Ты чего?» — перепугалась мать. «Душно, наверно», — Сима мелко и часто дышала, ошалело колотилось сердце, перед глазами плыли желтые и оранжевые круги. Боже, какой ужас! Стыдно-то!.. Душа заныла тяжко и муторно, тоска и позор подступили к постели. Все. Жизнь кончена. Серафима не спала всю ночь, утром торопливо собралась в техникум, шла по улице, опустив глаза, на занятиях забилась на последнюю парту — только чтоб не видели, чтоб никто не понял, какой ужас приходил ночью. Порок — вот оно, слово, Серафима нашла его; испорченная, испорченная до мозга костей. Похотливая кошка — точно, так и есть. Нет, наверно, она больна. Психически больна. Не может же нормальный человек испытывать все это… У нормальных — радость в труде, в семье, в детях, ну, в любви еще. Но чтобы захлестывал, перехлестывал через край, топил, убивал огненный стыд… Ей надо лечиться, обязательно надо! Нет: идти к врачу, говорить о ТАКОМ… Лучше сразу умереть! Нет! Ни за что! Нет! Нет! А все Ленка. Ленка виновата. Она. Дрянь. Оголтелая дура. Стерва. Сумасшедшая. А если кто про нее, Серафиму, узнает, что тогда? Камнями ведь закидают, и выгонят, выгонят, и куда она пойдет после этого? А мать — убьет мать-то!.. Дочь красного командира — и нате вам… Жить-то теперь — как?.. Никому, никогда… Не проговориться… Может, обойдется еще… Но оранжевый сон не отставал, нагло подмигивал из скрипучего сугроба на предвечерней улице, назойливо стучал ручьем в бело-сиреневый лед, и она старалась избегать людей, держалась ото всех подальше; подруг как-то не осталось, Мигунова после техникума собралась в институт поступать, день и ночь к экзаменам готовилась; Сталину оставили в школе преподавать физкультуру; Ленка с Соней завербовались на Север, в Норильск, кажется, мать говорила — за женихами, вздыхала: «Хоть бы и ты куда поехала, не вековухой же куковать». Не могла, не могла Серафима, не имела права, не дай Бог — выдаст себя, а как объяснишь матери, ну как объяснишь?.. И вообще, кому скажешь?.. Раньше она разговаривала с куклами — ей казалось, куклы заколдованы, и потом, позже, когда открыли универмаг, она до смерти боялась магазинных манекенов, те таращили нарисованные, с огромными зрачками, глаза, стояли, вытянув руки, и странно растопыренными пальцами пытались дотянуться до Серафимы, и она поспешно отходила, и ждала, что вот сейчас расстегнутся булавки, которыми скреплены манекеновы платья, упадут сработанные из пакли парики, и голые лысые чудовища оторвут от пола подошвы навечно впаянных в ноги «лодочек» и зашагают к ней, и не справишься, не ударишь, им не больно… Дома, ночью, когда гасили свет, манекены вновь обступали Серафиму, она металась на постели, а манекены кружились в странном механическом танце, натужно дергались, сплетались, и Серафима видела — как со стороны — себя среди них, она тоже манекен, кукла… Ночному сонному небытию на смену шло утро — чудовищно покореженные, как гигантская груда металлолома, иксы, синусы и параллелограммы, железно-неумолимо схватывали Серафиму и швыряли в свою выдуманную, сроком в сорок пять минут, жизнь — после техникума она преподавала в школе математику — и не поймешь, где жизнь, где нежить, как детская считалка: жить-нежить… Ночные кошмары вечерами ждали и прятались в темных углах комнаты, Серафима усаживалась за конспекты и что-то черкала в тетрадях далеко за полночь; мать ворчала: «Только электричество зря переводишь», — а Серафима потихоньку пробиралась к постели, тихо, незаметно, и может, сегодня она, и вовсе не заснет, есть же люди с бессонницей, и видела изуродованную куклу, и открытый гроб в овраге, рядом плескался ручей, Господи, да это Ленка вместо куклы, и можно ее сломать, задушить, вот так, с силой — Серафима стискивала пальцы у Ленки на горле, а вдоль спины будто кто пускал ток, и вновь накатывало жуткое упоение, два, три раза за ночь… Никогда не думалось, что убить — это тоже ТАК… Сродни… Недаром великий позор, и кара для убийц страшная. Выходит, и она ничем не лучше убийцы. Такая же дрянь. Народу в городе прибавлялось, начали строить завод, километрах в десяти. Строили зеки, Сима раз видела одну зечку, все руки у нее были в наколках — тоже, наверно, убийца, недаром сидит, уголовница… Девчачью школу преобразовали в общую, отдали еще два здания, соединили переходами в одно; учителей не хватало, Серафима вела географию, пение, рисование; занимались в три смены — где уж там на кладбище к Ане сходить лишний раз… И так-то в год под исход ходила. Девчонки бывали у Ани почему-то все врозь — боялись, что ли, друг друга… Старое кладбище заросло крапивой в рост человека, она почти не стрекавила, и Серафима шагала напрямую, через пустырь; на могиле она оставляла букет самодельных бумажных цветов, стояла с минуту — просто не знала, что еще тут нужно делать — и уходила. Галкину тайну она узнала случайно, кто же мог подумать, что и Ать-Два тоже что-то мучило… Мигунова стояла меж могил — что она там делала? С Аней они никогда не дружили. Серафима собралась было окликнуть Галку, но тут она вскинула голову и забормотала: «Умирайте, умирайте скорей, подыхайте, старые дуры, и тогда на земле останусь я одна, прекрасная, свободная и счастливая!» Она повторила это раз двадцать, улыбнулась, а потом ее как выключили — Галка ссутулилась и побрела прочь. Выходит, Мигунова себя красавицей в зеркале видела — Господи, с ее-то лицом! — просто ей кто-то очень мешал… Теперь Симе все понятно стало. И вправду, в дурдом Галку отвезли очень скоро, месяца не прошло. Говорили, переутомилась, перезанималась в институте. И правильно; разве скажешь кому: у комсомолки, активистки — такие ужасные, жестокие мысли… Страшно… С Галкой сделалось что-то по-настоящему страшное, жуткое, неумолимое… Со Сталиной не так, там все проще, да и потешней. В школе о ней говорили шепотом, с оглядкой на дверь — не услыхал бы кто… Талке доверили везти ребят в областной образцово-показательный пионерлагерь — разве думал кто, что так выйдет?.. Мальчишка, которого она там завела в бельевую кладовку, был чужой, не то из Чебоксар, не то из Москвы, лет шестнадцати, уже успел догадаться, что к чему. Нет, если бы Серафима встала на педсовете и рассказала о том давнем случае — ну, как Талка молилась тогда — все бы, наверно, обошлось; одно к одному — оно вон как складывается: сначала на церковь поглядываешь, потом… Кривая дорожка — она ясненькая! А ведь постеснялась, да и забыла почти; а чего стоило — подойти потихоньку к директрисе, если при всех-то застеснялась… Завуч, Изабелла Сергеевна, высокая крашеная блондинка — почему-то при виде Серафимы у нее наступал приступ откровенности — отвела ее в сторону, зашептала: «Представляете, после всего — ну, того самого — Сталина спрашивает: тебе понравилось? Естественно, мальчик отвечает: конечно, понравилось. Ну тогда, говорит, зови всех остальных Он и позвал: и первый отряд, и второй. Представляете, ужас?.. Сталина наша обслужила человек двадцать, тут ее и застигли — воспитательница», — завуч подняла палец, — «Я всегда говорила: и обучение, и пионерлагерь для девочек и мальчиков должны быть раздельными, и уж никаких лиц другого пола рядом присутствовать не должно. Нас ведь с вами совсем не так воспитывали, правильно, Серафима Игнатьевна?» — и Серафима кивнула: «Да, нас воспитывали совсем не так…» Скверно было на душе: перебори она себя, заговори о Талке, вспомни вовремя о церкви той, и не было бы этого позора всенародного, и на школу бы пальцами кому ни лень не показывали: учительша в дурдоме… А интересно, живы они сейчас, Галка со Сталиной? Вон как все получилось — Серафима за Ивана Фомича вышла… Чем все еще кончится… А Талкина мать от позора вслед за дочерью, в область, уехала, и вещи бросила, и все — да, времени прошло… Пьяное время — пьяное, спотыкается, и мотает его из стороны в сторону, гигантские, в небо, часы без стрелок, и небо — мимо-мимо, галопом: день — ночь, день — ночь, быстрей, быстрей, не остановишь, только где-то за углом прячется новый директор школы в мягких тапочках, и по вечерам, когда в учительской остаются поболтать одинокие и неприкаянные, тихонько подкрадывается к двери и подслушивает — может, и сейчас кто-то слышит мысли, и подслушивает, подглядывает потихоньку, шпионит за ней, дрянь такая, я тебе покажу, чужие мысли нельзя воровать, стыдно, все спят, Иван Фомич спит, и веки не разодрать; Серафима клевала носом, смотрела в предрассветное окно — оттуда на нее падал крест — может, рама? Оконная рама? — Крест, крест, Боже, спаси, Боже, спаси! — Крест, колокольня, а-а, наклонилась, наклонилась, упадет! — Страшно, Господи, как страшно, в фундамент, вжаться в фундамент, бежать — успею, успею, а-а, двери, вот они!..

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
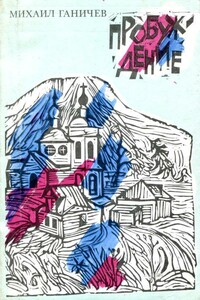
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.