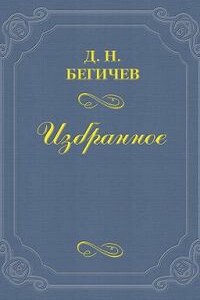"На другой день, утромъ, напившись чаю, всѣ мы пошли одѣваться, чтобъ ѣхать къ обѣднѣ. Я велѣлъ запрягать экипажи. Жена моя, бывши всегда богомольна, не хотѣла пропустить начала обѣдни, т. е. часовъ, притомъ-же она хотѣла пройтиться, и отправилась, съ дочерью, пѣшкомъ. Но лишь только, проводивъ ее, успѣлъ я войдти къ себѣ въ кабинетъ, вдругъ слышу ужасный шумъ и крикъ – подбѣгаю къ окну – вижу, что крестьяне мои, и бабы, собравшіяся близь господскаго дома, чтобы идти къ обѣднѣ – бѣгутъ съ воплями и стонами въ разныя стороны! Вижу также скачущихъ на лошадяхъ мужиковъ, съ дубинами, и среди ихъ одного, распоряжающаго этимъ нашествіемъ! Что можно мнѣ было подумать? Кажется, ничего другаго, что разбойники вторгнулись въ мое имѣніе. Мысль эта тѣмъ болѣе казалась вѣроятною, что въ нашей сторонѣ появилось тогда много бѣглыхъ, и недалеко отъ меня, въ лѣсу, ограбили они одного моего сосѣда. Сказывали даже, что они нападаютъ открыто на нѣкоторыя деревни. Послѣ этихъ слуховъ, всегда были y меня въ кабинетѣ, на стѣнѣ, два заряженныхъ пистолета, и сабля, чтобы въ случаѣ нападенія была какая нибудь защита. Я схватилъ пистолеты, каммердинеру моему приказалъ взять саблю, и выбѣжалъ на дворъ. Тутъ мнѣ попалась Форрейторская лошадь, которую вели запрягать. Я вскочилъ на нее, и поскакалъ. Между тѣмъ на шумъ выскочили дворовые мои люди, изъ своихъ избъ. И y меня была, точно такъ-же, какъ и y всѣхъ Русскихъ помѣщиковъ, большая дворня – куча лакеевъ, кучеровъ, поваровъ, мастеровыхъ, всего человѣкъ болѣе пятидесяти. Всѣ они бросились, верхами и пѣшкомъ, съ ружьями, съ дубинами, кто съ чѣмъ попало: но я, не дожидаясь никого, устремился прямо на Атамана, какъ мнѣ казалось, этой разбойнической шайки, мужика, который распоряжалъ нашествіемъ. "Наглый мошенникъ! нападать среди дня!.. Сей часъ сдавайся, или я тебя убью!" кричалъ я, подставивъ къ нему пистолетъ. Онъ быль мертвецки пьянъ; что-то такое началъ мнѣ говорить, и ударилъ меня, бывшею въ рукахъ его, нагайкою; я – спустилъ курокъ, и онъ повалился съ лошади на землю…. Выстрѣлъ обратилъ вниманіе прочихъ разбойниковъ, которые преслѣдовали по полю моихъ крестьянъ, и били ихъ. Всѣ бросились было на меня, но увидѣвъ, что мои люди приближаются ко мнѣ на помощь, я поскакалъ къ нимъ, a разбойники, окруживъ Атамана своего, взяли его на руки, положили въ близъ стоявшую тѣлегу, запряженную тройкою, и поскакали въ лѣсъ. Между тѣмъ люди мои подоспѣли ко мнѣ, и просили позволенія преслѣдовать разбойниковъ въ лѣсу. Но я почиталъ уже довольно достаточнымъ и то, что отражено нашествіе. Соображая притомъ, что преслѣдовать и ловить въ лѣсу, гдѣ разбойники, вѣроятно, разсыпались, было-бы опасно, велѣлъ я людямъ воротиться, и хотѣлъ тотчасъ дать знать въ городъ о такомъ, необыкновенномъ y насъ въ Россіи, происшествіи, a самъ спѣшилъ скорѣе домой, чтобы успокоить жену и гостей моихъ.
"Первый предметъ, поразившій меня при входѣ въ комнаты, былъ – дочь моя, въ ужасныхъ судорогахъ! Гувернантка, няня, и нѣкоторые изъ родныхъ, хлопотали около нея. Я спросилъ торопливо: отъ чего сдѣлались съ нею судороги. "Отъ испуга," отвѣчали мнѣ. – Да гдѣ жена? Сохрани Богъ, ежели она увидитъ дочь въ такомъ положеніи – и, не дожидаясь отвѣта, пошелъ я далѣе. Въ гостиной вижу всѣхъ родныхъ моихъ въ большомъ смущеніи. "Гдѣ жена?" спросилъ я, испуганный ихъ видомъ. – Она въ спальнѣ – не очень здорова – сказали мнѣ – подожди, не ходи къ ней; она, кажется, уснула теперь…. Въ это время выбѣжала жена моего брата, блѣдная, съ разстроеннымъ лицомъ. Она сказала что-то мужу своему, и тотъ стремглавъ побѣжалъ изъ комнаты. "Что все это значитъ? Гдѣ жена моя?" вскричалъ я въ отчаяніи. – Ничего; авось, дастъ Богъ пройдетъ: она чрезвычайно растревожилась; въ глазахъ ея было все это нашествіе – отвѣчала жена моего брата. – Крикъ, вопли, стоны крестьянъ, a болѣе всего поразила ее Лизанька, съ которою отъ испуга сдѣлались судороги; ихъ обѣихъ безъ чувства принесли въ комнаты. Теперь, слава Богу, она опомнилась. Только боимся мы, чтобы она не выкинула, и для того сказала я, чтобы, какъ можно поскорѣе, послали въ городъ за бабушкою и за лекаремъ. Но, мнѣ кажется, ты хорошо сдѣлаешь, ежели войдешь къ ней. Увидѣвъ тебя, она успокоится.
Я нашелъ ее лежащею въ постелѣ, и чрезвычайно слабою. Но при взглядъ на меня, она оживилась, румянецъ покрылъ ея щеки. – "Это ты, мой другъ?" сказала она. "Слава Богу, что ты живъ!" Я бросился на колѣни передъ ея постелью, и обливалъ слезами руки ея. – "Не безпокойся, мой другъ! Мнѣ, слава Богу, лучше – продолжала она слабымъ голосомъ. – "Что Лизанька? жива, или уже нѣтъ ея на свѣтѣ? Не скрывайте отъ меня, друзья мои: я Христіанка, и, съ Божіею помощію, перенесу и это горе; мнѣ уже не въ первый разъ хоронить дѣтей." – Слезы потекли изъ ея глазъ. Мы призывали Бога во свидѣтели, что Лиза жива, и что ей лучше. – "Вѣрю, вѣрю вамъ," сказала она. Между тѣмъ она чрезвычайно страдала, мученія усиливались. Потихоньку молилась она, и потомъ, когда чувствовала нѣкоторое облегченіе, просила меня беречься, не предаваться отчаянію, возложить всю надежду на милосердаго нашего Создателя – Но муки ея дѣлались часъ отъ часу нестерпимѣе. "Другъ мой, другъ мой, друзья мои молитесь, молитесь за меня! О Боже! подкрѣпи меня! Но нѣтъ, нѣтъ! силы мои ослабѣли; я чувствую, что мнѣ недолго жить! Пошлите поскорѣе за Священникомъ." Всѣ рыдали, суетились, бѣгали, я былъ въ какомъ-то ужасномъ оцѣпенѣніи, ничего не чувствовалъ, ничего не понималъ, и самъ себя не помнилъ. Двери были отворены, домъ наполнился дворовыми, женщинами и слугами; повсюду были слышны плачъ и рыданія. Всѣ любили ее – да и можно-ли было не любить этого Ангела!" Инфортунатовъ не могъ далѣе продолжать: онъ задыхался отъ рыданія, чувствовалъ, что ему дѣлается дурно, и просилъ подать бутылку съ водою, которая стояла на окнѣ. Но и самому Пронскому нужно-было такое же пособіе. Онъ плакалъ до такой степени, что голова его кружилась, и онъ былъ также близокъ къ тому, чтобы упасть въ обморокъ. Вода освѣжила ихъ. "Несчастный, несчастный! лишиться однимъ разомъ всего, что было драгоцѣнно на свѣтѣ!" вскричалъ Пронскій, бросившись въ объятія Инфортунатова. Слезы ихъ смѣшались.