Счастье - [5]
Пашка наклонилась над люлькой.
— Филипп, Филька! — шептала она, и глаза набухали злыми слезами.
Разве не берегла она для сына дорогое имя: «Роман, Ромка, Ромочка!..» Они выбирали со Славкой это имя в ту далекую ночь под яблоней, как лучшее зерно из вороха пшеницы.
Имя было проверено на слух, стало родным, с ним сжились.
Она со Славкой вступила в жизнь, гордая своей любовью и бедностью. Она верила в свои руки, жадные до работы. Так зачем же теперь Крякуновы лезут со своим родством, громоздят на их пути комоды и сундуки?
А может, все это делается с согласия Славки, с его ведома? Нет, нет, Славка не их породы, не крякуновской, он совсем другой…
Скрипнула дверь. Дунька ввела сухорукую Анисью, насмешливо оглядела избу и вещи:
— Здорово живешь, молодая Крякуниха!
После раздела дома Пашка почти не встречалась с сестрой. Дунька изменилась: похудела, выпрямилась, глаза смотрели смело, ходила она в мужском полушубке.
— Здравствуй, сестрица! — ответила Пашка и обернулась к матери: — Зачем все это?
— Говорила я, дочка, — вздохнула Анисья. — Да разве меня кто слушает… Я слову рукой не могу помочь. А Крякуновы, они прут и прут… С узлами, сундуками… Все сени заняли… И все по ночам, по ночам… Беда, вишь, над домом собирается, вот и суетятся.
— Беда? Какая беда?..
— Чуют Крякуновы, что раскулачат их скоро, вот и прячут добро по чужим щелям, — насмешливо пояснила Дунька, прихорашиваясь перед трюмо. — Ради такого случая тебя даже невесткой признали.
— Раскулачат?! — вырвалось у Пашки.
— Непременно! А твоего батюшку нареченного, Никодима, из села вышлют.
Пашка прошла к кровати и легла за полог. Руки ее дрожали, лицо горело.
Вот она, расплата! Вот тот час, которым Славка грозил отцовскому дому! Где-то он, Славка? Почему не едет? Неужели не дошли до города ее письма?
— Соболезнуешь, сестричка? Батюшку Никодима жалко? — спросила Дунька.
— Мать! Дунька! — закричала Пашка. — Вышвыривайте все на улицу. Не нужно мне чужого!
Анисья покачала головой. Дунька кривила губы.
— Да ну же скорей! — торопила Пашка. — Без Никодима разбогатеем, сами… Вот они, руки-то…
Она поднялась, схватила узел и, волоча по полу, потащила в сени, но у порога споткнулась и упала.
— А вот и я! — радостно приветствовал ее чей-то голос.
Пашка вскрикнула и поднялась: в дверях стоял Славка.
— Ты?! Ты от них, от Крякуновых?
— Нет, со станции. Отца видел, на суде встретились. Ну, Паша… — он торжественно поднял руку, — суд за нас, раздел утвердили. Завтра будем делиться.
— Делиться? — изумленно переспросила Пашка. — А зачем? Ой, ой!.. Ты еще Ромочку не видел… Пойдем скорей, — и она, схватив Славку за руку, потянула к люльке.
Опять ребятишки бежали по селу и кричали:
— Крякуновы делятся!
У крякуновского пятистенка толпился народ. Талый снег был размешан в кисель. Веселые ручейки крались в подворотню. Крыльцо и сени запятнали мокрыми следами, мазками глины. По двору, по амбарам и клетушкам ходил Григорий с портфелем. Славка с фонарем, Никодим без шапки, в худых опорках, и двое понятых.
Славка жаднел. Он требовал всего: зерна, сена, сбруи, скота, посуды. Он торговался, как цыган, хватался за счеты, ругался с отцом.
Василиса, закутанная в шаль, ходила следом и охала:
— Перед богом, Славочка, постыдись!.. Стариков пожалей! Я женщина сырая, к работе неспособная…
— Пусть его грабит, пусть дом разрывает! Кот! Зверь! — исступленно кричал Никодим. — Яблони-то в саду забыл… Сто корней имею. Руби каждую пополам, волоки свою долю.
— Ну нет, папаша! Яблочки уж ты сам кушай, а мне медок выдели, пчелок.
Даже Григорий урезонивал молодого Крякунова:
— Надобно брать в соответствии. У папаши четыре души, а у тебя три.
Дочери Никодима провожали добро с громким ревом.
Когда Славка выводил из хлева телку, Никодим выскочил из сеней и принялся кнутом стегать ее по ляжкам. Телка взбрыкнула, вырвалась и помчалась по улице.
Добро перевозили на санях. Кадки, ведра, мешки, кули окружили Пашкин дом.
Вещи были назойливы, требовали места, умелых рук хозяйки. Пашка расставляла их по своим местам. Кринки, как грибы, заняли омшаник, посуда, сияя белизной, легла на полках, лари с зерном и мукой встали в сенях.
Но поток вещей рос. Теперь вещи привозили ночью. Славка будил Пашку и звал разгружать подводы. Они таскали тяжелые мешки, волочили сундуки. Вещи занимали все углы и закутки: на чердаке, в сенях, во дворе. Пашку начинало смущать это ночное переселение вещей. Она спрашивала:
— Слава, это все наша доля? И такая большая?
— Наша, наша! — торопливо бросал Славка.
— А знаешь, Слава, хоть и наша доля, а все-таки чужое добро. Зачем нам столько? Пожили бы — свое заимели…
— Ладно, ладно… Потом поговорим. Поторапливайся, уже светает.
Славка стал озабоченным, беспокойным; днями куда-то уходил, вечером возвращался хмурый, быстро ужинал и ложился. Пашка подносила ему Ромку, а он уже спал. Поговорить так и не удавалось.
Ночью Пашка будила мужа и спрашивала, что с ним.
Славка не отвечал. Пашку начали мучить подозрения.
В мыслях она видела другую женщину, которая уводит от нее Славку. Она стала следить. Но Славка целыми днями пропадал в правлении колхоза. Только однажды Пашка была поражена. Совсем поздно — уже погасли огни в селе — Славка подошел к дому Никодима и постучал. Его впустили как близкого, без обычного окрика: «Кто там?» Пашка припала к окну.
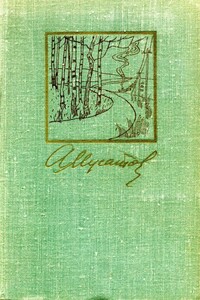
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
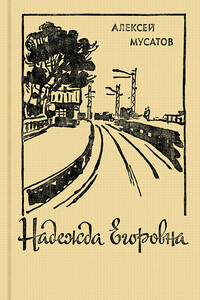
В книгу вошли произведения, посвященные женщинам. Писателя привлекают душевная щедрость, нравственная чистота и социальная активность человека.
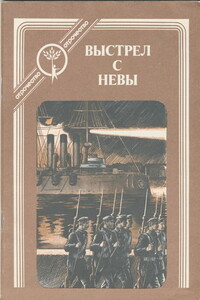
Сборник рассказов советских писателей, воскрешающих события октябрьских дней 1917 года в Петрограде и Москве. .
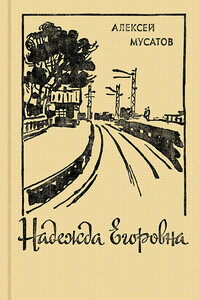
В книгу вошли произведения, посвященные женщинам. Писателя привлекают душевная щедрость, нравственная чистота и социальная активность человека.

В сборник из серии «У пионерского костра» вошли рассказы С. Бабаевского, А. Мусатова, Н. Носова и Б. Емельянова.
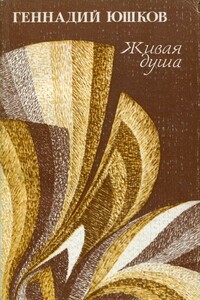
Геннадий Юшков — известный коми писатель, поэт и прозаик. В сборник его повестей и рассказов «Живая душа» вошло все самое значительное, созданное писателем в прозе за последние годы. Автор глубоко исследует духовный мир своих героев, подвергает критике мир мещанства, за маской благопристойности прячущего подчас свое истинное лицо. Герои произведений Г. Юшкова действуют в предельно обостренной ситуации, позволяющей автору наиболее полно раскрыть их внутренний мир.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эпизод из жизни северных рыбаков в трудное военное время. Мужиков война выкосила, женщины на работе старятся-убиваются, старухи — возле детей… Каждый человек — на вес золота. Повествование вращается вокруг чая, которого нынешние поколения молодежи, увы, не знают — того неподдельного и драгоценного напитка, витаминного, ароматного, которого было вдосталь в советское время. Рассказано о значении для нас целебного чая, отобранного теперь и замененного неведомыми наборами сухих бурьянов да сорняков. Кто не понимает, что такое беда и нужда, что такое последняя степень напряжения сил для выживания, — прочтите этот рассказ. Рассказ опубликован в журнале «Наш современник» за 1975 год, № 4.

В книгу вошли роман «Воскрешение из мертвых» и повесть «Белые шары, черные шары». Роман посвящен одной из актуальнейших проблем нашего времени — проблеме алкоголизма и борьбе с ним. В центре повести — судьба ученых-биологов. Это повесть о выборе жизненной позиции, о том, как дорого человек платит за бескомпромиссность, отстаивая свое человеческое достоинство.

Новый роман грузинского прозаика Левана Хаиндрава является продолжением его романа «Отчий дом»: здесь тот же главный герой и прежнее место действия — центры русской послереволюционной эмиграции в Китае. Каждая из трех частей романа раскрывает внутренний мир грузинского юноши, который постепенно, через мучительные поиски приходит к убеждению, что человек без родины — ничто.

