Счастье - [3]
Крыльцо выходило в поле. Летом ромашки цвели прямо у крыльца. Сейчас же около дома высились остроребрые, точеные сугробы снега. Ветер просвистывал дом со всех четырех сторон. Вместе с Пашкой поселилась в доме Анисья.
По утрам, выезжая с ушатом на оледенелых санках к колодцу, Пашка горбилась, стараясь шубой прикрыть свой пополневший живот. Бабы и девки делали вид, что не замечают Пашки, говорили о своих делах: о сене, о коровах, о поздних буранах. Пашка прислушивалась к робким толчкам под сердцем, и глаза ее сияли.
И, видя эти глаза, женщины добрели:
— С наследником, Паша?
— В ожиданьице ходишь?
Они наполняли ей ушат водой, рассказывали о трудностях первых родов, о свивальниках, о пеленках.
В ведрах стыла вода. Валенки прилипали ко льду.
Бабы спохватывались и торопили Пашку:
— Простынешь, молодая!.. Иди домой скорее!
Никодим Крякунов, встречая Пашку, сходил с дороги в сугроб и отворачивался в сторону.
Пашка гордо проносила свой живот, точно полный кузов груздей. И Никодим шептал:
— Вот естество, проклинай его, поноси… а оно свое берет… А ведь все на мою шею.
В одну из ночей, когда на улице бушевал свирепый буран, на калитке Пашкиного дома дегтем написали:
«Тут живет Пашка-бомба. Скоро взорвется!»
Утром Пашка соскоблила надпись косарем, отмыла горячей водой.
На другое утро всю калитку обмазали дегтем. Паша плюнула, но мыть и скоблить не стала.
На селе начиналась коллективизация. Всюду шли горячие споры о новой жизни, о новой судьбе. По вечерам в избах оставались только дети да немощные старики, а все остальные уходили на собрания. Ужинать садились под утро, с запевом петухов. Щи прокисали, ели их без аппетита.
Только Пашка никуда не ходила. Дом ее стоял, как остров, затертый льдами.
— Сказывают, третий день сходуют люди… Ты бы сходила, Пашенька, послушала… Может, и нас касается, — говорила дочери мать.
— Ни к чему это… — отмахивалась Пашка. — Вот Славик вернется, все у нас будет по-хорошему. — И она продолжала шить распашонки и одеяльца.
Как-то раз, пробившись через сугробы, к Пашке пришел Григорий Бычков.
У порога он долго искал веник и, не найдя его, принялся обивать заснеженные валенки брезентовым портфелем.
Пашка сидела у железной, вишневого накала, печки и гребешком расчесывала влажные волосы.
Она давно не видела Григория, хотя до нее и доходили слухи, что тот «пошел в гору», стал «вроде за главного».
Помнится, еще при разделе Дунька поддразнила сестру:
— А Бычков-то, Пашенька, тю-тю, утек! Он хоть и не учен, а студенту твоему не уступит!
— Ну и ладно… — отрезала Пашка. — Возьми себе, коль сладок.
Сейчас Григорий сел на лавку и положил на колени портфель. Работая секретарем сельсовета, Григорий научился с достоинством заходить в чужие избы, с достоинством присаживаться к столу, научился важно и дипломатично вести с мужиками разговор о политике, о земле, не забыв при этом вручить нужную повестку или составить акт о неуплате сельхозналога.
— Прасковья Петровна! — начал Григорий, спокойно глядя на Пашку. — Чуете, весна скоро?
Пашка удивилась. Откуда это спокойное, немного чужое обращение на «вы»? Ведь раньше было не так: Гриша хватал ее за локоть, заикался, краснел: «Пашка! Приходи сегодня к бревнам! Слышишь, Пашка?..»
— Ну и весна, а тебе зачем? — равнодушно отозвалась Пашка.
— К тому я… Как жить будете? Мы вот все, кто с убеждением в душе, в колхоз вошли, весну ждем и не боимся ее. Встречу ей готовим…
Он сообщил, что Дунька с подругами сейчас в районе на огородных курсах, что в кузнице у них готовят к севу плуги, бороны… Он говорил все теплее, задушевнее, проще, уже перейдя на «ты», потом достал из портфеля лист бумаги и предложил Пашке написать заявление в колхоз.
Пашка откинула за плечи волосы и смешливо спросила:
— Сказывают, ты к Таньке Поляковой сватаешься? Правда, Гриша?
Григорий нахмурился. «Позор, позор! Секретарь сельсовета — и краснеет, как мальчишка».
Оправившись от смущения, он тихо продолжал:
— Грустно мне, Прасковья Петровна, а только, выходит, правильно сестра ваша говорит…
— Дунька, что ли?.. Чего она брешет там?
— А было тут у нас бедняцкое собрание. И дали вашей сестре слово. «Есть, говорит, такая беднота, как наша Пашка, засела на своей даче и от колхоза юбкой занавесилась. А все, говорит, потому, что Крякуновы кровью своей ее отравили».
Пашка отошла в угол, убрала под пестрый платок волосы, заплетенные в косу.
— Дунька — жадина. Два воза сена мне не довезла: я вот в суд на нее подам.
Потом сердито сказала Григорию:
— Ты ко мне не приставай. Ни сенины у меня, ни травины — и в колхоз! Да с какими глазами я пойду туда? Это только Дунька бессовестная нагишом лезет. Дайте мне хоть на ноги встать…
Григорий ушел. Буран лютовал, гнал сухой, звонкий, как песок, снег. Все поле покрылось конусами и воронками. Григорий искал дорогу, нащупывал ногами тропку, но та ускользала из-под ног. Григорий вернулся к Пашкиному дому и устало прислонился к крыльцу.
Потом робко постучал в дверь. Долго не открывали. Он постучал еще раз:
— Прасковья Петровна!.. Паша!.. Я это… Бумагу на столе забыл… Пусти, Паша.
И тут же в сенях он схватил Пашку за руку и, как прежде, сбивчиво и бестолково зашептал:
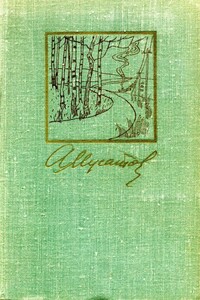
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
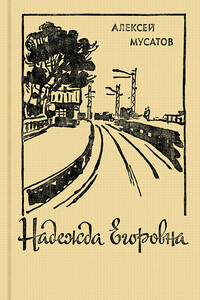
В книгу вошли произведения, посвященные женщинам. Писателя привлекают душевная щедрость, нравственная чистота и социальная активность человека.
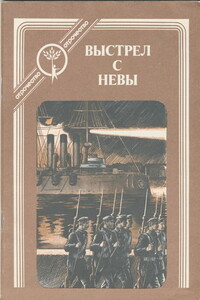
Сборник рассказов советских писателей, воскрешающих события октябрьских дней 1917 года в Петрограде и Москве. .
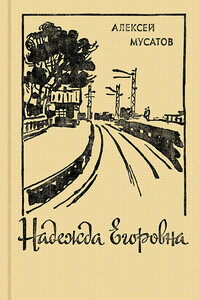
В книгу вошли произведения, посвященные женщинам. Писателя привлекают душевная щедрость, нравственная чистота и социальная активность человека.

В сборник из серии «У пионерского костра» вошли рассказы С. Бабаевского, А. Мусатова, Н. Носова и Б. Емельянова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые — журн. «Новый мир», 1928, № 11. При жизни писателя включался в изд.: Недра, 11, и Гослитиздат. 1934–1936, 3. Печатается по тексту: Гослитиздат. 1934–1936, 3.

Василий Журавлев-Печорский пишет о Севере, о природе, о рыбаках, охотниках — людях, живущих, как принято говорить, в единстве с природой. В настоящую книгу вошли повести «Летят голубаны», «Пути-дороги, Черныш», «Здравствуй, Синегория», «Федькины угодья», «Птицы возвращаются домой». Эта книга о моральных ценностях, о северной земле, ее людях, богатствах природы. Она поможет читателям узнать Север и усвоить черты бережного, совестливого отношения к природе.
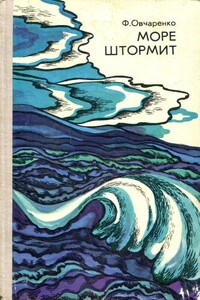
В книгу известного журналиста, комсомольского организатора, прошедшего путь редактора молодежной свердловской газеты «На смену!», заместителя главного редактора «Комсомольской правды», инструктора ЦК КПСС, главного редактора журнала «Молодая гвардия», включены документальная повесть и рассказы о духовной преемственности различных поколений нашего общества, — поколений бойцов, о высокой гражданственности нашей молодежи. Книга посвящена 60-летию ВЛКСМ.

