Сад, Фурье, Лойола - [16]
И как раз согласно этому негативному смыслу отталкивания — по крайней мере, в первый раз — необходимо интерпретировать игнатианское воображение. Здесь следует отличать воображаемое от воображения. Воображаемое можно понимать как совокупность внутренних представлений (в расхожем смысле), или же как поле предательства образа (какой смысл мы находим у Башляра и в тематической критике), или еще как незнание субъектом самого себя в момент, когда он берет на себя задачу говорить, заполняя свое Я (такой смысл слова «воображаемое» у Ж. Лакана). И вот оказывается, что воображаемое Игнатия весьма бедно во всех этих смыслах. Сеть образов, каковой он спонтанно распоряжался (или которую он предлагает упражняющемуся), имеет почти никакого значения, так что вся работа «Упражнений» состоит в том, чтобы снабдить образами человека, от природы ими обделенного; производимые с большим трудом, благодаря ожесточенному стремлению, эти образы остаются банальными скелетоподобными: если необходимо «вообразить» ад, это будут (воспоминания о мудрой системе образов) пожары, завывания, сера, слезы; нигде не видно тех путей преображения, тех «аллей грез», какими Башляр умел оснащать свою тематику; у Игнатия никогда не встречается ни одной из тех субстанциональных сингулярностей, тех сюрпризов со стороны материи, какие мы находим у Рейсбрука>7 или у Иоанна Креста; Игнатий весьма стремительно заменяет своим интеллектуальным шифром описание воображаемой вещи: Люцифер, конечно же, сидит за своего рода «громадной кафедрой из огня и дыма», но в остальном его вид просто «ужасен и устрашающ». Что же касается игнатианского Я, по крайней мере в «Упражнениях», то у него нет ни малейшей бытийной ценности, оно никоим образом не описывается, не предицируется, его упоминание чисто транзитивно, императивно («как только я просыпаюсь, возвратить меня в здравую память…», «задержать мои взгляды», «лишить меня всякого света» и т. д.); поистине это шифтер>8, идеально описываемый лингвистами, которому его психологическая пустота, существование только в оборотах речи обеспечивают своего рода блуждание в неопределенных личностях. Словом, у Игнатия нет ничего напоминающего сокровищницы образов, разве что риторика.
И насколько ничтожно воображаемое Игнатия, настолько мощным (неустанно культивируемым) является его воображение. Под этим словом, которое мы будем воспринимать во всей полноте активного смысла, каковой оно могло иметь в латыни, следует понимать энергию, позволяющую произвести язык, единицы которого, разумеется, будут «подражаниями», но отнюдь не образами, возникающими и накапливающимися где-то в личности. Будучи намеренной деятельностью, энергией слова, производством формальной системы знаков, игнатианское воображение, стало быть, может и должно иметь, прежде всего, апотропеическую>9 функцию; в первую очередь, это сила, дающая возможность отталкивать чуждые образы; подобно структурным правилам языка — каковые не являются правилами нормативными — оно формирует некое ars obligatoria>10, фиксирующее не столько то, что следует воображать, сколько то, что невозможно воображать — или то, что невозможно не воображать. Именно эту негативную способность следует признавать, прежде всего, по основополагающему акту медитации, каким является концентрация: «созерцать», «фиксировать», «преломлять себе при помощи воображения», «помещать себя перед лицом предмета» — это, прежде всего, исключать, это даже исключать непрерывно, как если бы — в противовес видимости — ментальная фиксация предмета никогда не могла поддерживать позитивную эмфазу, но могла быть лишь постоянно существующим остатком ряда активных исключений, совершаемых благодаря бдительности: чистота, одиночество образа представляет собой саму его сущность, так что Игнатий указывает, как на наиболее труднодостижимый атрибут образа, на время, в течение которого он должен выдерживаться (в продолжение прочтения трех молитв «Отче Наш», трех молитв «Богородица» и т. д.). Слегка варьируемой формой этого закона исключения является обязательство, данное упражняющимся, с одной стороны для того, чтобы занять все его органы чувств (зрение, обоняние и т. д.), последовательно посвящая их одному и тому же субъекту, — а с другой стороны свести все незначительные явления его повседневной жизни к одному-единственному языку, на котором следует говорить и код которого Игнатий стремится установить: таковы бренные потребности, каких не может избежать упражняющийся, таков свет, такова погода, таково питание, таково одевание — из всего этого следует «извлечь выгоду», чтобы превратить в предметы образа («Во время приема пищи созерцать Господа нашего Христа, как если б мы видели его трапезу с его Апостолами, как если бы мы видели его манеру пить, смотреть, говорить, и стараться подражать ему»), согласно своего рода тоталитарной экономии, когда всё, от случайного до пустякового и тривиального, должно быть использовано повторно: подобно романисту, упражняющийся есть «тот, для кого ничто не утрачивается» (Генри Джеймс). Все эти подготовительные протоколы, изгоняя с поля уединения языки мирские, досужие, физические, естественные, словом —

Необходимость этой книги заключается в следующем соображении: любовная речь находится сегодня в предельном одиночестве. Речь эта, быть может, говорится тысячами субъектов (кто знает?), но ее никто не поддерживает; до нее нет дела окружающим языкам: они или игнорируют, или недооценивают, или высмеивают ее, она отрезана не только от власти, но и от властных механизмов (науки, знания, искусства). Когда какой-либо дискурс вот так, сам собой, дрейфует в сторону неактуального, за пределы всяких стадных интересов, ему не остается ничего иного, как быть местом, пусть сколь угодно ограниченным, некоего утверждения.
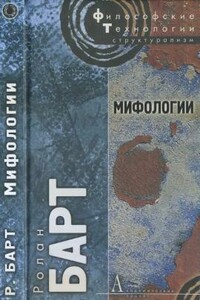
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
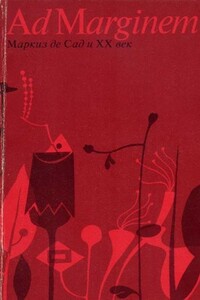
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Структурализм и постструктурализм — союзники или соперники? Каковы взаимосвязи между поэтикой русской формальной школы и новейшей структурной поэтикой? И в чем суть постструктуралистского «разрушения поэтики»? Почему, едва пережив стремительный взлет, французский структурализм испытал столь же стремительное увядание, уступив место философии и практике «децентрации»? И отчего Ролан Барт, в 60-е годы единодушно признанный главой сциентистской «новой критики», в следующем десятилетии прославился уже как мэтр антисциентистской «семиологии множественности»? Чем «структура» отличается от «произведения» и «произведение» — от «текста»? Почему произведение подавляет свой текст, а текст стремится вырваться из под власти произведения? Что такое постструктуралистская «множественность без истины»?Отвечая на эти вопросы, составитель обратился к «золотому веку» французской гуманитарии, включив в книгу классические работы Кл.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
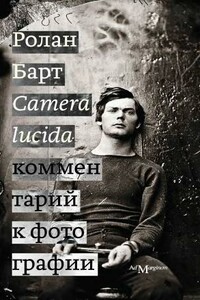
«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».