Рыбы не знают своих детей - [39]
— Вы уж извините, соседи… Мне бы самому сообразить… Через мою дурость у вас нескладуха вышла. Спасибо, что хоть вразумили.
Егор повернулся и ушел. Отец привстал, будто собираясь догнать соседа, потом только вздохнул тяжело и сел опять на свое место.
Они погнали меня спать, а сами остались в кухне. Я еще долго слышал, как они спорили за стеной, сердитыми, приглушенными голосами. По-моему, они в ту ночь и не ложились, потому что наутро я застал их там, где оставил — в кухне: лица у обоих красные, глаза усталые, воспаленные, волосы всклокоченные, как после драки.
С тех пор они стали точно чужие. Если один в кухне, другой туда не сунется, пусть ему хоть позарез нужно. Случайно столкнутся в комнате — один непременно поспешит уйти, будто двоим там тесно — воздуха, что ли, не хватает. Они и раньше не слишком много беседовали между собой, отца, например, всегда раздражали разговоры о насущных делах, которые заводила мать. Допустим, выдался погожий день, мать рада: постиралась, развесила белье, и до чего же славно сушится, и так далее, а отец слушает ее хмуро, без интереса — он и сам знает про белье, как-никак помогал полоскать, натягивал во дворе веревку. А если настроение у матери скверное, она начнет загибать пальцы: то-то да то-то сделала, ох, сил больше нет, все кости ломит, руки-ноги сводит. «Брось ты, — скажет отец, — всем нелегко, надо потерпеть…» Попытается заговорить о будущем, загадать: что-то нас ожидает через год или два, начнет перечислять все дела, которые надо переделать до зимы, а мать не слушает, все о своем рассуждает: слава богу, вчера коровушка дала целое ведро молока, слава богу, отхватила в магазине отрез на пальто, бабы-то чуть не поубивали друг дружку за эту материю, и дальше, и дальше, пока не переберет все события сегодняшние да все вчерашние. Не могли они найти общий язык. Разве что один из них вдруг вспомнит Литву. Тогда у обоих лица добрели, светлели, будто их солнцем озарило. Они называли какие-то незнакомые мне имена, гадали: живы те люди или нет, богаты ли, здоровы ли, а то принимались перечислять неведомые мне кушанья, вспоминали какой-то ручей и старый дуб на берегу, говорили о ярмарках и всяких праздниках, которых здесь, в Сибири, никто не справляет… Обыкновенно эти разговоры кончались тем, что мать начинала утирать слезы, а отец доставал из шкафчика бутылку с водкой, и оба выпивали по стопке. А после той памятной ночи они перестали даже о Литве говорить. Я уже сказал: когда родители не ладят, то и детям плохо. Это верно. Они избегали один другого, а заодно и меня сторонились, иногда просто не замечали. А деревенские ребята тоже как-то иначе стали ко мне относиться, начали дразнить куркуленком. Чуть что, сразу режут прямо в глаза: у тебя отец с матерью куркули, а ты куркуленок. Как-то я пожаловался матери и спросил, что за слово такое и почему нас так называют. А мать мне: плюнь ты на них, не обращай внимания. Ты только погляди, как они живут — нищие, голь перекатная, вот и завидуют нам. Однако мне от таких объяснений было не легче — ребята не хотели со мной водиться, не принимали в свою компанию. А однажды к нам пожаловал председатель сельсовета инвалид Солдаткин. Правую ногу этот Солдаткин потерял в Германии и вместо ноги приладил себе струганую деревяшку, но и на деревянной ноге он прыгал на диво быстро да ловко, иному здоровому не угнаться. Особенно любо было смотреть, как Солдаткин скачет по грязи: здоровую, обутую в сапог ногу все норовит поставить на сухое место, а деревяшку тычет куда попало, грязь фонтаном брызжет. Известно, в сельпо никто тебе один сапог не продаст, надо пару брать. Солдаткин и покупал пару сапог, только номера самого большого, чтобы и правый сапог можно было надеть на левую ногу. Вот, значит, является этот самый Солдаткин — стук-стук деревяшкой по кухне — и говорит матери: «Нехорошо ты живешь, Шеркшнене, нечестно». «Что же я такого сделала — на работу, что ли, не хожу? Или норму не даю?» — это мать ему отвечает. А Солдаткин: «Люди на тебя жалуются». «На нашу семью?» «Нет, — говорит Солдаткин, — мужа твоего и сына это все не касается, а только тебя одной. Люди жалуются, что ты за молоко да за масло, за яйца с живого шкуру сдираешь. Это как, правда?» Мать в ответ давай хохотать — до того ей стало весело. Просмеялась, ну и спрашивает: «А ты видал, председатель, что я кого-нибудь силком к себе волокла?» «Нет, не видал», — говорит Солдаткин. «И никогда, председатель, не увидишь, потому что я сюда никого не зову, сами валом валят, последнюю каплю молочка, последнее яичко выклянчат, своим и то не останется, и я их жалею, я сама мать и знаю, каково это, если дитя просит, а ты ему дать ничего не можешь. Не приведи господь лютому моему врагу такое пережить, председатель!» «Нет, погоди, Шеркшнене, дай-ка ты и мне слово сказать». «Говори, председатель, говори, Солдаткин…» «Я пришел не затем, чтобы запретить тебе продавать молоко или там яйца. Продавай, Шеркшнене! Только очень уж дорого берешь за свой товар, вот людям и обидно. Жалуются на тебя, Шеркшнене. И не на словах, а на бумаге, ты слышишь? А ты понимаешь, что это значит? Советская власть не может закрывать глаза на такие факты, ясно тебе?» «Ясно, товарищ председатель: как же видеть, если глаза закрывать? Но дешевле отдавать не могу. Сами в долгу как в шелку, за коровенку по сей день выплачиваем, от себя кусок отрываем, только бы из долгов вылезти, только бы продохнуть, а они, вишь, рублики считают, будто не знают, что из рублика супа не сваришь, в чугунок его не сунешь, ребятенку пососать не всучишь. Верно я говорю, а, председатель? Ну а которые жалобщики, пусть ко мне не пристают, лучше я корову зарежу да хоть раз в жизни мясца наемся, чем задарма молоко базарить, председатель ты наш». «Ой смотри, Шеркшнене, чтобы больше нам жалоб в Совет не писали, чтоб не пришлось принимать строгие меры, потому как мы обязаны чутко реагировать на сигналы трудящихся, понятно тебе, а за нечуткое отношение и бюрократический подход нам и самим достается будь здоров». Мать угодливо кивала головой. Проводила она Солдаткина не просто в сени, а довела до самой калитки. А так как дверь она оставила открытой, я слышал, как она бормотала, пока шла назад: «А чтоб тебе да последнее копыто сломать, да чтоб тебе на коровьей лепешке поскользнуться, черту окаянному… Ну а вы меня попомните, на брюхе приползете, соседушки любезненькие…» Обычно мать спешила под вечер подоить корову как можно раньше, чтобы люди успели сварить на ужин суп или просто запить кашу кружкой молока. Но в этот день она доила поздно. Возилась в кухне, что-то искала в сенях, пока не набился полный двор покупателей — большей частью бабы с детишками. Тогда мать с подойником через руку вышла во двор и напустилась на клиенток: «И зачем явились, соседушки разлюбезные? Чего вы тут не видали да по кому соскучились — уж не по молочнице ли своей, куркулихе, что дерет с вас три шкуры? А вы ступайте лучше в сельсовет, к Солдаткину, подоите его, козла одноногого, только ко мне больше не заглядывайте — нет у меня для вас молока!» Дикий гвалт поднялся во дворе после материнских слов. Бабы кинулись уговаривать мою мать, успокаивать, божились, будто они тут ни при чем, их-де вполне устраивает ее цена, только бы живое молоко от коровки, а не порошковое — не молоко, а водица забеленная, тьфу, а это все Катька воду мутит — девка с двумя выблядками, она и к Солдаткину бегала, и бумагу написала. Во дворе находилась и сама Катька — дебелая, грудастая, в самом деле заимевшая двух ребят без мужа и проживавшая в деревне вместе с престарелыми родителями. Та и не думала отнекиваться, выложила прямо в глаза: «Ага, ходила! И еще пойду. Пойду к Солдаткину и все скажу, если не будешь по-божески. И не таких усмиряли, и на тебя управу найдем». Мать не стала с ней лаяться, даже голоса не повысила, просто сказала: «Больше ко мне не ходи», — и ушла в хлев. Катька плюнула, грохнула бидоном об угол нашего дома и убралась, а бабы недобро глядели ей вслед. С той поры не стало мне житья. Целыми днями один да один. Как пришитый к корове этой. Потихоньку я начал ее ненавидеть. Мне ведь казалось, что все невзгоды у нас из-за нее: и то, что со мной никто не водится, и что родители не ладят, и что вроде раздружились с дядей Егором. Я уже не стоял над Пеструшкой с веткой, не отгонял от нее слепней, а тайком даже мечтал: вот бы выскочил из кустов волк или медведь и задрал бы нашу коровушку. А что — такое в наших краях случалось, правда, не в те времена, гораздо раньше, когда никто не занимался подсечкой на живицу и лес никто не валил. Это сейчас все вырубки да вырубки, сплошные пни да поляны, на каждом шагу люди, шум, трескотня — где уж тут развернуться косолапому или серому. Если бы старшие почаще советовались с детьми, меньше было бы ошибок и дурных поступков, потому что детское сердце отзывчивей, оно глубже чувствует несправедливость, насилие. Но всегда получается наоборот: если ты мал, то, хочешь или не хочешь, слушайся взрослых и делай, как они велят. Я бы, конечно, посоветовал избавиться от коровы, но разве кто-нибудь стал бы меня слушать! А дело происходило в самый разгар лета. Солнце как нанялось — кружит, кружит над деревней, почти и не прячется. От жары все задыхаются. Ребята из речки не вылезают, мне на них смотреть завидно — я при корове. К тому же и плавать не умею, так что сам стал всех чураться — боялся, как бы на смех не подняли. Отец, видимо, догадался, что со мной делается, и как-то воскресным днем сказал: «Пошли, Юлюк, на речку, научу тебя плавать». Все мои страдания, все беды как рукой сняло от этих отцовских слов. И верно, как мало надо человеку для счастья! Мы отошли подальше, за деревню, выбрали хорошее местечко, и начались уроки плавания. Сам учитель плавал немногим лучше топора, но с грехом пополам держался на воде, бешено вымолачивал ногами, поднимал тучу брызг, а руками работал как собака, когда она роет землю лапами. У меня, понятное дело, выходило не так славно, но отец не унывал и знай повторял, что к вечеру я чему-нибудь да выучусь. Я барахтался в воде, пока не начинал стучать зубами, а потом валился на берегу рядом с отцом и смотрел в ярко-голубое небо, подставив пузо жгучему солнцу. И вот, когда мы в который уже раз улеглись на берегу передохнуть, отца осенило: незачем тащиться обедать домой, еще, чего доброго, мамка обоим работу задаст, сбегай-ка ты, Юлюс, один да принеси чего-нибудь перекусить. Босиком, полуголый, я помчался домой. Штаны и рубашку нарочно оставил на берегу, чтобы мать не задержала дома. Однако не всегда складывается, как предвидишь, даже если все продумано до мелочей… Я уже говорил тебе, помнишь, про нашего соседа, Любомира Острового, — тот с похмелья бывал хуже зверя лютого. В то воскресное утро как раз и выдался этот злосчастный момент. Еще не добежав до дома, я увидел, как на улицу вылетела растрепанная жена Острового, а за ней со звоном выкатилось ведро. Баба мчалась по деревне, а ее бешеный муж орал ей вслед ругательства, потом подобрал с земли ведро и потащился не к себе во двор, почему-то к нам. Я понял: надеется выклянчить у матери рублик на похмелье. Так оно и оказалось. Я застал Острового у нас в сенях. Мать стояла, загораживая кухонную дверь, стояла готовая отразить любой натиск, а сосед униженно молил: «Будь человеком, Шеркшнене, посочувствуй ближнему своему…» Мать не желала слушать. «Больно мне нужно сочувствовать всякой пьяной швали! Сначала водку жрет, точно прорва, потом куролесит, шумит, а ты еще ему сочувствуй. Хватит с меня, насочувствовалась, дура набитая, а долг ты вернул?» Островой виновато залепетал: «Не бойся, никуда он не денется, твой долг». А мать насмехается: «Получается у тебя как в цыганском банке — никуда не денется, но и не возьмешь!» Сосед, однако, решил не сдаваться. Он клялся, божился, осенял себя крестным знамением, но мать была непреклонна. Островой пал на колени, молитвенно сложил руки и чуть не плача сказал: «Ведь есть у тебя сердце, я же знаю, ты человек добрый, зачем меня мучаешь?» Мать, до того не повысившая голоса, заорала на весь двор: «Хоть крестом ложись, хоть землю рой, ноги мне целуй — ничего не получишь! Да лучше я своему дитенку леденцов куплю, чем тебе, пьянице, рубль кину! Вставай, убирайся отсюда, ишь разит как из старой бочки. Все!» Островой как будто не сразу сообразил, что именно ему говорят. Он еще покачался, стоя на коленях, потом встал и сказал, да с хрипом и присвистом: «У, жидовка проклятая, чтоб тебе подавиться первым же куском!» Он плюнул матери под ноги, вышел за калитку и завопил во всю глотку: «Мы кровь проливали за власть Советов, а все равно всякие жиды да паразиты сидят на нашей шее, кровь сосут, подлые. Понавезли на нашу голову всякой контры недорезанной, но мы еще вам покажем, вот увидите!» Он орал, срываясь на хрип, и тряс кулаками, так что мать не на шутку испугалась: мало ли что выкинет этот контуженый. Она втолкнула меня в дом и закрылась вместе со мной на крючок. Когда мы отсиделись и я взял закуски, прибежал к отцу на речку, он спросил не то у меня, не то у себя самого, много ли надо человеку для счастья. И сам ответил: «И много, и мало — только бы всегда чувствовать рядом с собой человека». И погладил меня по голове. Я и впрямь был счастлив, потому что не все еще понимал в жизни, ну и решил, будто я и есть тот человек, который рядом с отцом, нужный для его счастья.

Юозас Пожера — литовский писатель, журналист, впервые выступил в печати в начале шестидесятых годов с очерками и рассказами о литовской деревне. Затем появился его сборник рассказов «Мне чудятся кони», роман «Мой суд». Большую популярность Ю. Пожера завоевал своими очерками. Писатель много ездил по Крайнему Северу Советского Союза, побывал у эвенков, ненцев, тофаларов, в Горной Шории, Туве, на Камчатке. Очерки о северных народностях составили несколько сборников: «День белого солнца» (1966), «Нет у меня другой печали» (1967) и «Северные эскизы» (1969), которые вошли в данную книгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.
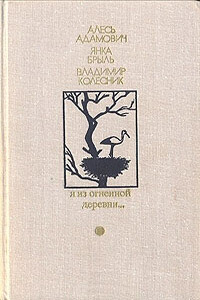
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.
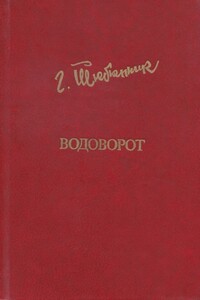
Роман «Водоворот» — вершина творчества известного украинского писателя Григория Тютюнника (1920—1961). В 1963 г. роман был удостоен Государственной премии Украинской ССР им. Т. Г. Шевченко. У героев романа, действие которого разворачивается в селе на Полтавщине накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны — разные корни, прошлое и характеры, разные духовный опыт и принципы, вынесенные ими из беспощадного водоворота революции, гражданской войны, коллективизации и раскулачивания. Поэтому по-разному складываются и их поиски своей лоции в новом водовороте жизни, который неотвратимо ускоряется приближением фронта, а затем оккупацией…
