Русский Бертольдо - [12]
Имя французского переводчика ни в одном издании указано не было: сам он в предисловии называл себя «Переводчиком, Сочинителем и Издателем в одном лице»[128]. Можно с уверенностью отнести его к литераторам просветительского толка, которые безошибочно чувствовали в персонажах, подобных Эзопу и Бертольдо, благодатный материал для популяризации эпохальных идей. Под его пером текст итальянского комического романа претерпевает характерную трансформацию: на первый план вышла и отчетливо зазвучала тема «торжества Разума», центральное место заняли различные вариации мифов о «естественном человеке» и «золотом веке», критика человеческого неравенства и рассуждения об «идеальном государе». В сущности, забавный текст «народного» романа был полностью преобразован в духе Просвещения.
Свою работу французский редактор назвал переводом «парафразическим» («le nom de Paraphrase») или «улучшенным». Он поясняет, что не следовал в точности ни за одним из источников, выбирая из них «только самое лучшее» и прибавляя к этому «из собственной своей головы» («de mon petit fonds»)[129]. Подобная вольность по отношению к оригиналу, впрочем, была вполне традиционной: ведь и до него итальянские академики «из своего труда выпустили все, что в подлиннике им казалось не подходящим для читателя, напротив, ничего не упустив из того, что могло бы ему понравиться»[130].
Почти сразу «Histoire de Bertholde» была переведена на немецкий язык под названием «Итальянский Эзоп» («Der Itälienische Aesopus»)[131], что, несомненно, хорошо отражало саму суть романа, следуя уже сложившейся традиции обновления архетипа[132]. Превращение Эзопа в немца, итальянца или француза, с точки зрения русского переводчика, по-видимому, было вполне допустимым: его перевод, хотя и сделан с французского, имеет «немецкий» вариант названия — «Италиянской Езоп» (СПб., 1778). Когда «Histoire de Bertholde» вышла в третий раз (это произошло в Париже в правление Директории), на титульном листе издания появилось имя Эзопа — «Bertholde, ou Le nouvel Esope»[133]. Следует отметить, что к новому названию добавилась новая художественная стилистика, выразившаяся в изысканности и даже гривуазности иллюстраций. Достаточно сравнить гравированные фронтисписы изданий «французского Бертольдо» 1750, 1752 и 1796 гг. Если на первых двух герой изображен еще довольно уродливым, грубым крестьянином, то на фронтисписе ко второй части издания 1796 г. перед нами очаровательный маленький паж, которого сам король вводит в покои королевы, возлежащей под балдахином в соблазнительной позе (см. ил. 39–41). Недаром, по версии «Histoire de Bertholde», главный герой подозревался в тайной связи с королевой.
Вторая французская версия романа Кроче появилась под названием «Жизнь Бертольдо, его сына Бертольдино и его внука Какасенно» в составе многотомной «Bibliothèque universelle des Romans»[134]. Известно, что это издание имело огромный успех, особенно среди женщин-читательниц[135], к чьим вкусам и стремился в первую очередь адаптировать «народный» роман его анонимный редактор из числа «первых ученых Франции»[136]. «Бертольдо» пережил теперь уже вторую серьезную «перелицовку», в результате которой в нем почти не осталось ничего вульгарного. Наряду с «Эйленшпигелем» и «Гаргантюа» роман Кроче подавался читателям в разделе «Litérature populaire». Более того, он объявлялся «древнейшим памятником» итальянской литературы, несущим на себе «поучительнейшие следы нравов и обычаев тех времен». Издатели «Bibliothèque» сочли нужным дать сведения не только об авторе «Бертольдо», который, по их словам, был чем-то вроде парижских «Chanteurs du Pont-Neuf» (бродячих певцов с Нового моста)[137], но и о поэтической версии Академии делла Круска, о которой они отзывались с огромным пиететом, а также об истории распространения этой книги за пределами Италии. При том что язык романа подвергся строгой очистке[138], а многие эпизоды вульгарного характера и остроты в народном духе были смягчены или вовсе опущены, без пикантности все же не обошлось. Вполне в духе времени внимание читателей (читательниц) обращалось, например, на эротический подтекст выражения «la расе di Marcolfa» (примирение Маркольфы)[139].
Уже через два года «Bibliothèque» стала выходить на немецком языке в Берлине[140], затем в Риге, перепечатанная И. Ф. Гарткнохом[141]. К немецкому переводу обратился Василий Левшин, чтобы познакомить и русских читателей с популярным французским изданием, теперь — под названием «Библиотека немецких романов» (М., 1780)[142]. Известны случаи, когда переводы особенно популярных романов из французского собрания выходили отдельными изданиями. Именно так в Сибиу (Трансильвания) на свет появился румынский «Бертольдо» (1799) во французской редакции «Bibliothèque»; его издатель Петру Барт (Bart, Petru, 1745–1801) из Германштадта специализировался на распространении западноевропейских книг[143]. Одновременно имели хождение и более ранние рукописные переводы, что подтверждает устойчивый спрос на «Бертольдо» среди румынского (и молдавского) населения
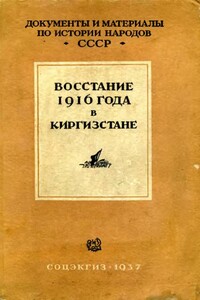
Настоящая книга содержит документы и материалы по восстанию киргиз летом 1916 г., восставших вместе с другими народами Средней Азии против царизма. Документы в основном взяты из фондов ЦАУ АССР Киргизии и в значительной части публикуются впервые. Предисловие характеризует причины восстания и основные его моменты. В примечаниях приводятся конкректные сведения, дополняющие публикуемые документы. Документы и материалы, собранные Л. В. Лесной Под редакцией и с предисловием Т. Р. Рыскулова.

Книга Э. Д. Фролова - едва ли не едиственное в отечественном антиковедении обобщающее исследование, посвященное ключевой проблеме античной истории - рождению полиса, т. е. формированию того типа социально-политической организации, который стал определяющим для классической древности, для древнегреческого общества в такой же степени, как и для римского.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.